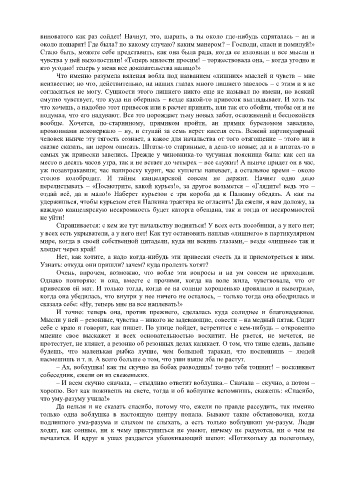Page 194 - СКАЗКИ
P. 194
виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты около где-нибудь спряталась – ан и
около пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? – Господи, спаси и помилуй!»
Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и
чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! – торжествовала она, – когда угодно и
кто угодно! теперь у меня все доказательства налицо!»
Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств – мне
неизвестно; но что, действительно, на наших глазах много лишнего завелось – с этим и я не
согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий
смутно чувствует, что куда ни обернись – везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты
что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не
подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств
вообще. Хочется, по-старинному, прямиком пройти, ан прямик буреломом завалило,
промоинами исковеркало – ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный
человек нынче эту тягость сознает, а какое для начальства от того отягощение – этого ни в
сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в
самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на
место в десять часов утра, так и не встает до четырех – все служит! А нынче придет он в час,
уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время – около
столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело
перелистывать – «Посмотрите, какой курьез!», за другое возьмется – «Глядите! ведь это –
отдай всё, да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину обедать. А как ты
удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! Да ежели, я вам доложу, за
каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей
не уйти!
Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет;
у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном
мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами,– везде «лишнее» так и
хлещет через край!
Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть да и присмотреться к ним.
Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят?
Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили.
Однако повторяю: и она, вместе с прочими, когда на воле жила, чувствовала, что от
привесков ей мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило,
когда она убедилась, что внутри у нее ничего не осталось, – только тогда она ободрилась и
сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»
И точно: теперь она, против прежнего, сделалась куда солиднее и благонадежнее.
Мысли у ней – резонные, чувства – никого не задевающие, совести – на медный пятак. Сидит
себе с краю и говорит, как пишет. По улице пойдет, встретится с кем-нибудь – откровенно
мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не
протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше
будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь – людей
насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.
– Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! – воскликнет
собеседник, ежели он из свеженьких.
– И всем скучно сначала, – стыдливо ответит воблушка.– Сначала – скучно, а потом –
хорошо. Вот как поживешь на свете, тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо,
что уму-разуму учила!»
Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно
только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда
подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди
ходят, как сонные, ни к чему приступиться не умеют, ничему не радуются, ни о чем не
печалятся. И вдруг в ушах раздается убаюкивающий шепот: «Потихоньку да полегоньку,