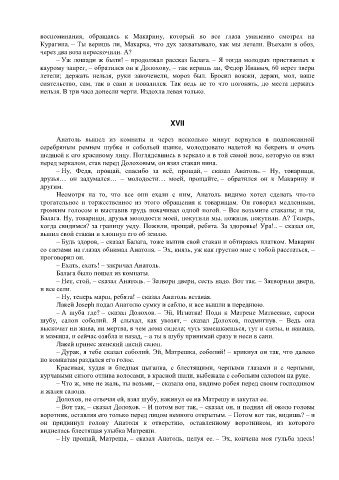Page 198 - Война и мир 2 том
P. 198
воспоминания, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на
Курагина. – Ты веришь ли, Макарка, что дух захватывало, как мы летели. Въехали в обоз,
через два воза перескочили. А?
– Уж лошади ж были! – продолжал рассказ Балага. – Я тогда молодых пристяжных к
каурому запрег, – обратился он к Долохову, – так веришь ли, Федор Иваныч, 60 верст звери
летели; держать нельзя, руки закоченели, мороз был. Бросил вожжи, держи, мол, ваше
сиятельство, сам, так в сани и повалился. Так ведь не то что погонять, до места держать
нельзя. В три часа донесли черти. Издохла левая только.
XVII
Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной
серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодцовато надетой на бекрень и очень
шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял
перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина.
– Ну, Федя, прощай, спасибо за всё, прощай, – сказал Анатоль. – Ну, товарищи,
друзья… он задумался… – молодости… моей, прощайте, – обратился он к Макарину и
другим.
Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатоль видимо хотел сделать что-то
трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным,
громким голосом и выставив грудь покачивал одной ногой. – Все возьмите стаканы; и ты,
Балага. Ну, товарищи, друзья молодости моей, покутили мы, пожили, покутили. А? Теперь,
когда свидимся? за границу уеду. Пожили, прощай, ребята. За здоровье! Ура!.. – сказал он,
выпил свой стакан и хлопнул его об землю.
– Будь здоров, – сказал Балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин
со слезами на глазах обнимал Анатоля. – Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расстаться, –
проговорил он.
– Ехать, ехать! – закричал Анатоль.
Балага было пошел из комнаты.
– Нет, стой, – сказал Анатоль. – Затвори двери, сесть надо. Вот так. – Затворили двери,
и все сели.
– Ну, теперь марш, ребята! – сказал Анатоль вставая.
Лакей Joseph подал Анатолю сумку и саблю, и все вышли в переднюю.
– А шуба где? – сказал Долохов. – Эй, Игнатка! Поди к Матрене Матвеевне, спроси
шубу, салоп соболий. Я слыхал, как увозят, – сказал Долохов, подмигнув. – Ведь она
выскочит ни жива, ни мертва, в чем дома сидела; чуть замешкаешься, тут и слезы, и папаша,
и мамаша, и сейчас озябла и назад, – а ты в шубу принимай сразу и неси в сани.
Лакей принес женский лисий салоп.
– Дурак, я тебе сказал соболий. Эй, Матрешка, соболий! – крикнул он так, что далеко
по комнатам раздался его голос.
Красивая, худая и бледная цыганка, с блестящими, черными глазами и с черными,
курчавыми сизого отлива волосами, в красной шали, выбежала с собольим салопом на руке.
– Что ж, мне не жаль, ты возьми, – сказала она, видимо робея перед своим господином
и жалея салопа.
Долохов, не отвечая ей, взял шубу, накинул ее на Матрешу и закутал ее.
– Вот так, – сказал Долохов. – И потом вот так, – сказал он, и поднял ей около головы
воротник, оставляя его только перед лицом немного открытым. – Потом вот так, видишь? – и
он придвинул голову Анатоля к отверстию, оставленному воротником, из которого
виднелась блестящая улыбка Матреши.
– Ну прощай, Матреша, – сказал Анатоль, целуя ее. – Эх, кончена моя гульба здесь!