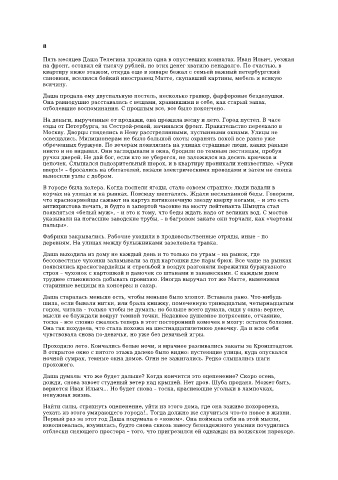Page 103 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 103
8
Пять месяцев Даша Телегина прожила одна в опустевших комнатах. Иван Ильич, уезжая
на фронт, оставил ей тысячу рублей, но этих денег хватило ненадолго. По счастью, в
квартиру ниже этажом, откуда еще в январе бежал с семьей важный петербургский
сановник, вселился бойкий иностранец Матте, скупавший картины, мебель и всякую
всячину.
Даша продала ему двуспальную постель, несколько гравюр, фарфоровые безделушки.
Она равнодушно расставалась с вещами, хранившими в себе, как старый запах,
отболевшие воспоминания. С прошлым все, все было покончено.
На деньги, вырученные от продажи, она прожила весну и лето. Город пустел. В часе
езды от Петербурга, за Сестрой-рекой, начинался фронт. Правительство переехало в
Москву. Дворцы гляделись в Неву расстрелянными, пустынными окнами. Улицы не
освещались. Милиционерам не было большой охоты охранять покой все равно уже
обреченных буржуев. По вечерам появлялись на улицах страшные люди, каких раньше
никто и не видывал. Они заглядывали в окна, бродили по темным лестницам, пробуя
ручки дверей. Не дай бог, если кто не уберегся, не заложился на десять крючков и
цепочек. Слышался подозрительный шорох, и в квартиру проникали неизвестные. «Руки
вверх!» – бросались на обитателей, вязали электрическими проводами и затем не спеша
выносили узлы с добром.
В городе была холера. Когда поспели ягоды, стало совсем страшно: люди падали в
корчах на улицах и на рынках. Повсюду шептались. Ждали неслыханной беды. Говорили,
что красноармейцы сажают на картуз пятиконечную звезду кверху ногами, – и это есть
антихристова печать, и будто в запертой часовне на мосту лейтенанта Шмидта стал
появляться «белый муж», – и это к тому, что беды ждать надо от великих вод. С мостов
указывали на погасшие заводские трубы, – в багровом закате они торчали, как «чертовы
пальцы».
Фабрики закрывались. Рабочие уходили в продовольственные отряды, иные – по
деревням. На улицах между булыжниками зазеленела травка.
Даша выходила из дому не каждый день и то только по утрам – на рынок, где
бессовестные чухонки заламывали за пуд картошки две пары брюк. Все чаще на рынках
появлялись красногвардейцы и стрельбой в воздух разгоняли пережитки буржуазного
строя – чухонок с картошкой и дамочек со штанами и занавесками. С каждым днем
труднее становилось добывать провизию. Иногда выручал тот же Матте, выменивая
старинные вещицы на консервы и сахар.
Даша старалась меньше есть, чтобы меньше было хлопот. Вставала рано. Что-нибудь
шила, если бывали нитки, или брала книжку, помеченную тринадцатым, четырнадцатым
годом, читала – только чтобы не думать; но больше всего думала, сидя у окна: вернее,
мысли ее блуждали вокруг темной точки. Недавнее душевное потрясение, отчаяние,
тоска – все словно сжалось теперь в этот посторонний комочек в мозгу: остаток болезни.
Она так похудела, что стала похожа на шестнадцатилетнюю девочку. Да и всю себя
чувствовала снова по-девичьи, но уже без девичьей игры.
Проходило лето. Кончались белые ночи, и мрачнее разливались закаты за Кронштадтом.
В открытое окно с пятого этажа далеко было видно: пустеющие улицы, куда опускался
ночной сумрак, темные окна домов. Огни не зажигались. Редко слышались шаги
прохожего.
Даша думала: что же будет дальше? Когда кончится это оцепенение? Скоро осень,
дожди, снова завоет студеный ветер над крышей. Нет дров. Шуба продана. Может быть,
вернется Иван Ильич… Но будет снова – тоска, краснеющие угольки в лампочках,
ненужная жизнь.
Найти силы, стряхнуть оцепенение, уйти из этого дома, где она заживо похоронена,
уехать из этого умирающего города!.. Тогда должно же случиться что-то новое в жизни.
Первый раз за этот год Даша подумала о «новом». Она поймала себя на этой мысли,
взволновалась, изумилась, будто снова сквозь завесу безнадежного уныния почудились
отблески сияющего простора – того, что пригрезился ей однажды на волжском пароходе.