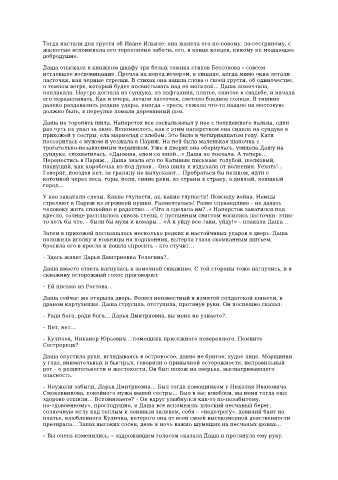Page 104 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 104
Тогда настали дни грусти об Иване Ильиче: она жалела его по-новому, по-сестриному, с
жалостью вспоминала его терпеливые заботы, его, в конце концов, никому не мешающее
добродушие.
Даша отыскала в книжном шкафу три белых томика стихов Бессонова – совсем
истлевшее воспоминание. Прочла их перед вечером, в тишине, когда мимо окна летали
ласточки, как черные стрелки. В стихах она нашла слова о своей грусти, об одиночестве,
о темном ветре, который будет посвистывать над ее могилой… Даша помечтала,
поплакала. Наутро достала из сундука, из нафталина, платье, сшитое к свадьбе, и начала
его переделывать. Как и вчера, летали ласточки, светило бледное солнце. В тишине
далеко раздавались редкие удары, иногда – треск, тяжело что-то падало на мостовую:
должно быть, в переулке ломали деревянный дом.
Даша не торопясь шила. Наперсток все соскальзывал у нее с похудевшего пальца, один
раз чуть не упал за окно. Вспомнилось, как с этим наперстком она сидела на сундуке в
прихожей у сестры, ела мармелад с хлебом. Это было в четырнадцатом году. Катя
поссорилась с мужем и уезжала в Париж. На ней была маленькая шапочка с
трогательно-независимым перышком. Уже в дверях она обернулась, увидела Дашу на
сундуке, спохватилась. «Данюша, едем со мной…» Даша не поехала. А теперь…
Перенестись в Париж… Даша знала его по Катиным письмам: голубой, шелковый,
пахнущий, как коробочка из-под духов… Она шила и вздыхала от волнения. Уехать!..
Говорят, поездов нет, за границу не выпускают… Пробраться бы пешком, идти с
котомкой через леса, горы, поля, синие реки, из страны в страну, в дивный, изящный
город…
У нее закапали слезы. Какие глупости, ах, какие глупости! Повсюду война. Немцы
стреляют в Париж из огромной пушки. Размечталась! Разве справедливо – не давать
человеку жить спокойно и радостно… «Что я сделала им?..» Наперсток закатился под
кресло, солнце расплылось сквозь слезы, с пустынным свистом носились ласточки: этим-
то хоть бы что, – были бы мухи и комары… «А я уйду все-таки, уйду!» – плакала Даша…
Затем в прихожей послышалось несколько редких и настойчивых ударов в дверь. Даша
положила иголку и ножницы на подоконник, вытерла глаза скомканным шитьем,
бросила его в кресло и пошла спросить – кто стучит…
– Здесь живет Дарья Дмитриевна Телегина?..
Даша вместо ответа нагнулась к замочной скважине. С той стороны тоже нагнулись, и в
скважину осторожный голос проговорил:
– Ей письмо из Ростова…
Даша сейчас же открыла дверь. Вошел неизвестный в измятой солдатской шинели, в
драном картузишке. Даша струсила, отступила, протянув руки. Он поспешно сказал:
– Ради бога, ради бога… Дарья Дмитриевна, вы меня не узнаете?..
– Нет, нет…
– Куличек, Никанор Юрьевич… помощник присяжного поверенного. Помните
Сестрорецк?
Даша опустила руки, вглядываясь в остроносое, давно не бритое, худое лицо. Морщинки
у глаз, внимательных и быстрых, говорили о привычной осторожности, неправильный
рот – о решительности и жестокости. Он был похож на зверька, высматривающего
опасность.
– Неужели забыли, Дарья Дмитриевна… Был тогда помощником у Николая Ивановича
Смоковникова, покойного мужа вашей сестры… Был в вас влюблен, вы меня тогда еще
здорово отшили… Вспоминаете? – Он вдруг улыбнулся как-то по-позабытому,
по-«довоенному», простодушно, и Даша все вспомнила: плоский песчаный берег,
солнечную мглу над теплым и ленивым заливом, себя – «недотрогу», девичий бант на
платье, влюбленного Куличка, которого она от всей своей высокомерной девственности
презирала… Запах высоких сосен, день и ночь важно шумящих на песчаных дюнах…
– Вы очень изменились, – задрожавшим голосом сказала Даша и протянула ему руку.