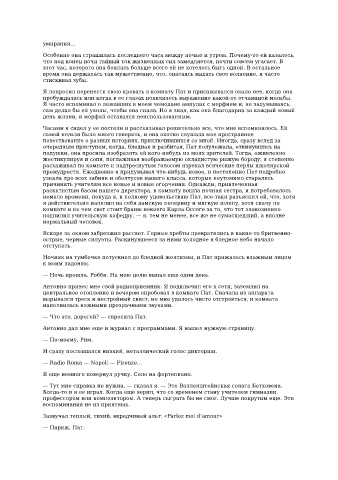Page 294 - Три товарища
P. 294
умирания…
Особенно она страшилась последнего часа между ночью и утром. Почему-то ей казалось,
что под конец ночи тайный ток жизненных сил замедляется, почти совсем угасает. В
этот час, которого она боялась больше всего ей не хотелось быть одной. В остальное
время она держалась так мужественно, что, опасаясь выдать свое волнение, я часто
стискивал зубы.
Я попросил перенести свою кровать в комнату Пат и присаживался около нее, когда она
пробуждалась или когда в ее глазах появлялось выражение какой-то отчаянной мольбы.
Я часто вспоминал о лежавших в моем чемодане ампулах с морфием и, не задумываясь,
сам делал бы ей уколы, чтобы она спала. Но я знал, как она благодарна за каждый новый
день жизни, и морфий оставался неиспользованным.
Часами я сидел у ее постели и рассказывал решительно все, что мне вспоминалось. Ей
самой нельзя было много говорить, и она охотно слушала мое пространное
повествование о разных историях, приключившихся со мной. Иногда, сразу вслед за
очередным приступом, когда, бледная и разбитая, Пат полулежала, откинувшись на
подушки, она просила изобразить ей кого-нибудь из моих зрителей. Тогда, оживленно
жестикулируя и сопя, поглаживая воображаемую окладистую рыжую бороду, я степенно
расхаживал по комнате и надтреснутым голосом изрекал всяческие перлы школярской
премудрости. Ежедневно я придумывал что-нибудь новое, и постепенно Пат подробно
узнала про всех забияк и оболтусов нашего класса, которые неутомимо старались
причинять учителям все новые и новые огорчения. Однажды, привлеченная
раскатистым басом нашего директора, в комнату вошла ночная сестра, и потребовалось
немало времени, покуда я, к полному удовольствию Пат, все-таки разъяснил ей, что, хотя
я действительно напялил на себя дамскую пелерину и мягкую шляпу, хотя скачу по
комнате и на чем свет стоит браню некоего Карла Оссеге за то, что тот злокозненно
подпилил учительскую кафедру, — я, тем не менее, все же не сумасшедший, а вполне
нормальный человек.
Вскоре за окном забрезжил рассвет. Горные хребты превратились в какие-то бритвенно-
острые, черные силуэты. Раскинувшееся за ними холодное я бледное небо начало
отступать.
Ночник на тумбочке потускнел до бледной желтизны, и Пат прижалась влажным лицом
к моим ладоням.
— Ночь прошла, Робби. На мою долю выпал еще один день.
Антонио принес мне свой радиоприемник. Я подключил его к сети, заземлил на
центральное отопление и вечером опробовал в комнате Пат. Сначала из аппарата
вырывался треск и нестройный свист, но мне удалось чисто отстроиться, и комната
наполнилась нежными прозрачными звуками.
— Что это, дорогой? — спросила Пат.
Антонио дал мне еще и журнал с программами. Я нашел нужную страницу.
— По-моему, Рим.
И сразу послышался низкий, металлический голос дикторши.
— Radio Roma — Napoli — Firenze…
Я еще немного повернул ручку. Соло на фортепиано.
— Тут мне справка не нужна, — сказал я. — Это Валленштейнская соната Бетховена.
Когда-то и я ее играл. Когда еще верил, что со временем стану учителем гимназии,
профессором или композитором. А теперь сыграть бы не смог. Лучше покрутим еще. Эти
воспоминания не из приятных.
Зазвучал теплый, тихий, вкрадчивый альт: «Parlez moi d’amour»
— Париж, Пат.