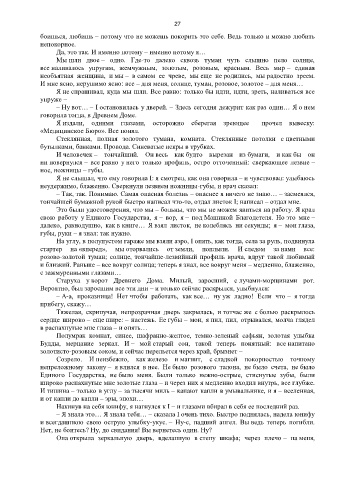Page 27 - Мы
P. 27
27
боишься, любишь – потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить
непокорное.
Да, это так. И именно потому – именно потому я…
Мы шли двое – одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце,
все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир – единая
необъятная женщина, и мы – в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем.
И мне ясно, нерушимо ясно: все – для меня, солнце, туман, розовое, золотое – для меня…
Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаться все
упруже –
– Ну вот… – I остановилась у дверей. – Здесь сегодня дежурит как раз один… Я о нем
говорила тогда, в Древнем Доме.
Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее – прочел вывеску:
«Медицинское Бюро». Все понял.
Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными
бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубках.
И человечек – тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги, и как бы он
ни повернулся – все равно у него только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие –
нос, ножницы – губы.
Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила – и чувствовал: улыбаюсь
неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:
– Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь – опаснее я ничего не знаю… – засмеялся,
тончайшей бумажной рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал – отдал мне.
Это были удостоверения, что мы – больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал
свою работу у Единого Государства, я – вор, я – под Машиной Благодетеля. Но это мне –
далеко, равнодушно, как в книге… Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я – мои глаза,
губы, руки – я знал: так нужно.
На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро, I опять, как тогда, села за руль, подвинула
стартер на «вперед», мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все:
розово-золотой туман; солнце, тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый
и близкий. Раньше – все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня – медленно, блаженно,
с зажмуренными глазами…
Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший, с лучами-морщинами рот.
Вероятно, был заросшим все эти дни – и только сейчас раскрылся, улыбнулся:
– А-а, проказница! Нет чтобы работать, как все… ну уж ладно! Если что – я тогда
прибегу, скажу…
Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась, и тотчас же с болью раскрылось
сердце широко – еще шире: – настежь. Ее губы – мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел
в распахнутые мне глаза – и опять…
Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зеленый сафьян, золотая улыбка
Будды, мерцание зеркал. И – мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано
золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет –
Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному
непреложному закону – я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было
Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были
широко распахнутые мне золотые глаза – и через них я медленно входил внутрь, все глубже.
И тишина – только в углу – за тысячи миль – капают капли в умывальнике, и я – вселенная,
и от капли до капли – эры, эпохи…
Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I – и глазами вбирал в себя ее последний раз.
– Я знала это… Я знала тебя… – сказала I очень тихо. Быстро поднялась, надела юнифу
и всегдашнюю свою острую улыбку-укус. – Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли.
Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?
Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа; через плечо – на меня,