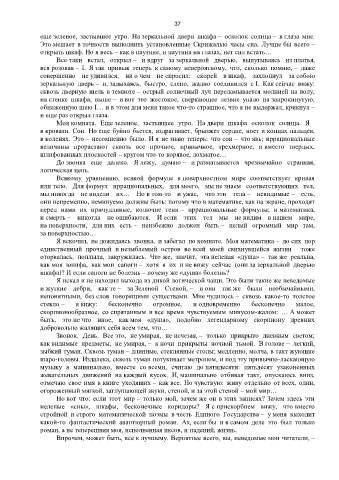Page 37 - Мы
P. 37
37
еще зеленое, застывшее утро. На зеркальной двери шкафа – осколок солнца – в глаза мне.
Это мешает в точности выполнить установленные Скрижалью часы сна. Лучше бы всего –
открыть шкаф. Но я весь – как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать…
Все-таки встал, открыл – и вдруг за зеркальной дверью, выпутываясь из платья,
вся розовая – I. Я так привык теперь к самому невероятному, что, сколько помню, – даже
совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей в шкаф, захлопнул за собою
зеркальную дверь – и, задыхаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас вижу:
сквозь дверную щель в темноте – острый солнечный луч переламывается молнией на полу,
на стенке шкафа, выше – и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую,
обнаженную шею I… и в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул –
и еще раз открыл глаза.
Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я –
в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев,
в коленях. Это – несомненно было. И я не знаю теперь: что сон – что явь; иррациональные
величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых,
шлифованных плоскостей – кругом что-то корявое, лохматое…
До звонка еще далеко. Я лежу, думаю – и разматывается чрезвычайно странная,
логическая цепь.
Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая
или тело. Для формул иррациональных, для моего, мы не знаем соответствующих тел,
мы никогда не видели их… Но в том-то и ужас, что эти тела – невидимые – есть,
они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят
перед нами их причудливые, колючие тени – иррациональные формулы; и математика,
и смерть – никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире,
на поверхности, для них есть – неизбежно должен быть – целый огромный мир там,
за поверхностью…
Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика – до сих пор
единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни – тоже
оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта нелепая «душа» – так же реальна,
как моя юнифа, как мои сапоги – хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью
шкафа)? И если сапоги не болезнь – почему же «душа» болезнь?
Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые
и жуткие дебри, как те – за Зеленой Стеной, – и они так же были необычайными,
непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось – сквозь какое-то толстое
стекло – я вижу: бесконечно огромное, и одновременно бесконечно малое,
скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: … А может
быть, это не что иное, как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних
добровольно жалящих себя всем тем, что…
Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая, – только прикрыто дневным светом;
как видимые предметы, не умирая, – к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове – легкий,
зыбкий туман. Сквозь туман – длинные, стеклянные столы; медленно, молча, в такт жующие
шаро-головы. Издалека, сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую
музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных
жевательных движений на каждый кусок. И, машинально отбивая такт, опускаюсь вниз,
отмечаю свое имя в книге уходящих – как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один,
огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной – мой мир…
Но вот что: если этот мир – только мой, зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти
нелепые «сны», шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо
стройной и строго математической поэмы в честь Единого Государства – у меня выходит
какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы и в самом деле это был только
роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов, и падений, жизнь.
Впрочем, может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели, –