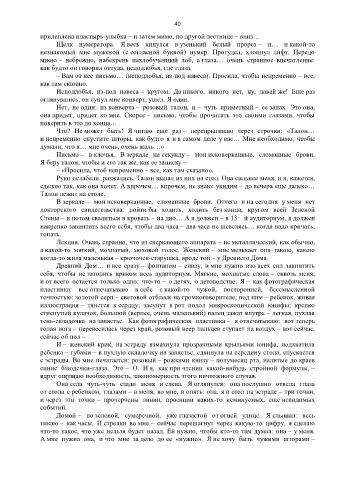Page 40 - Мы
P. 40
40
прилеплена пластырь-улыбка – и затем мимо, по другой лестнице – вниз…
Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез – и… и какой-то
незнакомый мне мужской (с согласной буквой) нумер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо
мною – небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза… очень странное впечатление:
как будто он говорил оттуда, исподлобья, где глаза.
– Вам от нее письмо… (исподлобья, из-под навеса). Просила, чтобы непременно – все,
как там сказано.
Исподлобья, из-под навеса – кругом. Да никого, никого нет, ну, давай же! Еще раз
оглянувшись, он сунул мне конверт, ушел. Я один.
Нет, не один: из конверта – розовый талон, и – чуть приметный – ее запах. Это она,
она придет, придет ко мне. Скорее – письмо, чтобы прочитать это своими глазами, чтобы
поверить в это до конца…
Что? Не может быть! Я читаю еще раз – перепрыгиваю через строчки: «Талон…
и непременно спустите шторы, как будто я и в самом деле у вас… Мне необходимо, чтобы
думали, что я… мне очень, очень жаль…»
Письмо – в клочья. В зеркале на секунду – мои исковерканные, сломанные брови.
Я беру талон, чтобы и его так же, как ее записку –
– «Просила, чтоб непременно – все, как там сказано».
Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Она сильнее меня, и я, кажется,
сделаю так, как она хочет. А впрочем… впрочем, не знаю: увидим – до вечера еще далеко…
Талон лежит на столе.
В зеркале – мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет
докторского свидетельства: пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой
Стены – и потом свалиться в кровать – на дно… А я должен – в 13‑ й аудиториум, я должен
накрепко завинтить всего себя, чтобы два часа – два часа не шевелясь… когда надо кричать,
топать.
Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата – не металлический, как обычно,
а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский – мне мелькает она такою, какою
когда-то жила маленькая – крючочек-старушка, вроде той – у Древнего Дома.
Древний Дом… и все сразу – фонтаном – снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить
себя, чтобы не затопить криком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова – сквозь меня,
и от всего остается только одно: что-то – о детях, о детоводстве. Я – как фотографическая
пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной
точностью: золотой серп – световой отблеск на громкоговорителе; под ним – ребенок, живая
иллюстрация – тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопической юнифы; крепко
стиснутый кулачок, большой (вернее, очень маленький) палец зажат внутрь – легкая, пухлая
тень-складочка на запястье. Как фотографическая пластинка – я отпечатываю: вот теперь
голая нога – перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух – вот сейчас,
сейчас об пол –
И – женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила
ребенка – губами – в пухлую складочку на запястье, сдвинула на середину стола, спускается
с эстрады. Во мне печатается: розовый – рожками книзу – полумесяц рта, налитые до краев
синие блюдечки-глаза. Это – О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы, –
вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.
Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся; она послушно отвела глаза
от стола с ребенком, глазами – в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде – три точки,
и через эти точки – прочерчены линии, проекции каких-то неминуемых, еще невидимых
событий.
Домой – по зеленой, сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь
тикаю – как часы. И стрелки во мне – сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сделаю
что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно, чтобы кто-то там думал: она – у меня.
А мне нужна она, и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими шторами –