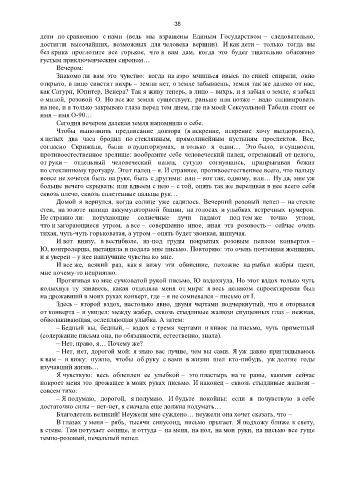Page 38 - Мы
P. 38
38
дети по сравнению с нами (ведь мы взращены Единым Государством – следовательно,
достигли высочайших, возможных для человека вершин). И как дети – только тогда вы
без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено
густым приключенческим сиропом…
Вечером:
Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься ввысь по синей спирали, окно
открыто, в лицо свистит вихрь – земли нет, о земле забываешь, земля так же далеко от нас,
как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу теперь, в лицо – вихрь, и я забыл о земле, я забыл
о милой, розовой О. Но все же земля существует, раньше или позже – надо спланировать
на нее, и я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит ее
имя – имя О-90…
Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе.
Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне, искренне хочу выздороветь),
я целых два часа бродил по стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все,
согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я один… Это было, в сущности,
противоестественное зрелище: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого,
от руки – отдельный человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая бежит
по стеклянному тротуару. Этот палец – я. И страннее, противоестественнее всего, что пальцу
вовсе не хочется быть на руке, быть с другими: или – вот так, одному, или… Ну да, мне уж
больше нечего скрывать: или вдвоем с нею – с той, опять так же переливая в нее всего себя
сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук…
Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел – на стекле
стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных нумеров.
Не странно ли: потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом,
что и загорающиеся утром, а все – совершенно иное, иная эта розовость – сейчас очень
тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром – опять будет звонкая, шипучая.
И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розовым пеплом конвертов –
Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю: это очень почтенная женщина,
и я уверен – у нее наилучшие чувства ко мне.
И все же, всякий раз, как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щеки,
мне почему-то неприятно.
Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо, Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть
колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектирован был
на дрожавший в моих руках конверт, где – я не сомневался – письмо от I.
Здесь – второй вздох, настолько явно, двумя чертами подчеркнутый, что я оторвался
от конверта – и увидел: между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз – нежная,
обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:
– Бедный вы, бедный, – вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный
(содержание письма она, по обязанности, естественно, знала).
– Нет, право, я… Почему же?
– Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь
к вам – и вижу: нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь, уж долгие годы
изучавший жизнь…
Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой – это пластырь на те раны, какими сейчас
покроет меня это дрожащее в моих руках письмо. И наконец – сквозь стыдливые жалюзи –
совсем тихо:
– Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны: если я почувствую в себе
достаточно силы – нет-нет, я сначала еще должна подумать…
Благодетель великий! Неужели мне суждено… неужели она хочет сказать, что –
В глазах у меня – рябь, тысячи синусоид, письмо прыгает. Я подхожу ближе к свету,
к стене. Там потухает солнце, и оттуда – на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще
темно-розовый, печальный пепел.