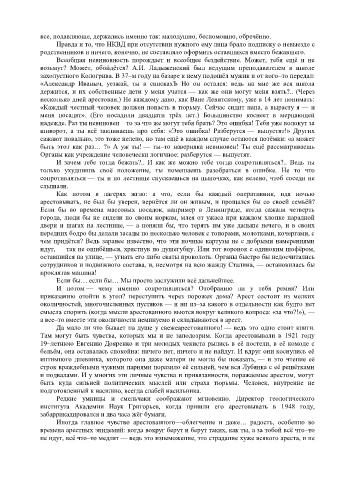Page 13 - Архипелаг ГУЛаг
P. 13
все, подавляюще, держались именно так: малодушно, беспомощно, обречённо.
Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица брало подписку о невыезде с
родственников и ничего, конечно, не составляло оформить оставшихся вместо бежавшего.
Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и не
возьмут? Может, обойдётся? А.И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе
захолустного Кологрива. В 37–м году на базаре к нему подошёл мужик и от кого–то передал:
«Александр Иваныч, уезжай, ты в спискахЪ Но он остался: ведь на мне же вся школа
держится, и их собственные дети у меня учатся — как же они могут меня взять?.. (Через
несколько дней арестован.) Не каждому дано, как Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать:
«Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и
меня посадят». (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей
надежде. Раз ты невиновен—то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за
шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся — выпустят!» Других
сажают повально, это тоже нелепо, но там ещё в каждом случае остаются потёмки: «а может
быть этот как раз… ?» А уж ты! — ты–то наверняка невиновен! Ты ещё рассматриваешь
Органы как учреждение человечески логичное: разберутся — выпустят.
И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. Ведь ты
только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что
сопротивляться — ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не
слышали.
Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью
арестовывать, не был бы уверен, вернётся ли он живым, и прощался бы со своей семьёй?
Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть
города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной
двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих
передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с
чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями
идут, — так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофёром,
оставшийся на улице, — угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались
сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, — остановилась бы
проклятая машина!
Если бы… если бы… Мы просто заслужили всё дальнейшее.
И потом — чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или
приказанию отойти в угол? переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких
околичностей, многочисленных пустяков — и ни из–за какого в отдельности как будто нет
смысла спорить (когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса: «за что?!»), —
а все–то вместе эти околичности неминуемо и складываются в арест.
Да мало ли что бывает на душе у свежеарестованного! — ведь это одно стоит книги.
Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году
19–летнюю Евгению Дояренко и три молодых чекиста рылись в её постели, в её комоде с
бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись её
интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать, — и это чтение её
строк враждебными чужими парнями поразило её сильней, чем вся Лубянка с её решётками
и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут
быть куда сильней политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не
подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.
Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического
института Академии Наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1948 году,
забаррикадировался и два часа жёг бумаги.
Иногда главное чувство арестованного—облегчение и даже… радость, особенно во
времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что–то
не идут, всё что–то медлят — ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не