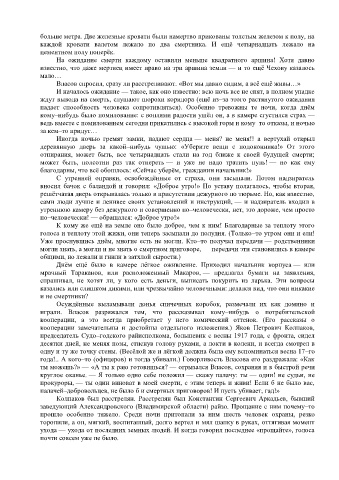Page 229 - Архипелаг ГУЛаг
P. 229
больше метра. Две железные кровати были намертво прикованы толстым железом к полу, на
каждой кровати валетом лежало по два смертника. И ещё четырнадцать лежало на
цементном полу поперёк.
На ожидание смерти каждому оставили меньше квадратного аршина! Хотя давно
известно, что даже мертвец имеет право на три аршина земли — и то ещё Чехову казалось
мало…
Власов спросил, сразу ли расстреливают. «Вот мы давно сидим, а всё ещё живы…»
И началось ожидание — такое, как оно известно: всю ночь все не спят, в полном упадке
ждут вывода на смерть, слушают шорохи коридора (ещё из–за этого растянутого ожидания
падает способность человека сопротивляться). Особенно тревожны те ночи, когда днём
кому–нибудь было помилование: с воплями радости ушёл он, а в камере сгустился страх —
ведь вместе с помилованием сегодня прикатились с высокой горы и кому–то отказы, и ночью
за кем–то придут…
Иногда ночью гремят замки, падают сердца — меня? не меня!! а вертухай открыл
деревянную дверь за какой–нибудь чушью: «Уберите вещи с подоконника!» От этого
отпирания, может быть, все четырнадцать стали на год ближе к своей будущей смерти;
может быть, полсотни раз так отпереть — и уже не надо тратить пуль! — но как ему
благодарны, что всё обошлось: «Сейчас уберём, гражданин начальник!»
С утренней оправки, освобождённые от страха, они засыпали. Потом надзиратель
вносил бачок с баландой и говорил: «Доброе утро!» По уставу полагалось, чтобы вторая,
решётчатая дверь открывалась только в присутствии дежурного по тюрьме. Но, как известно,
сами люди лучше и ленивее своих установлений и инструкций, — и надзиратель входил в
утреннюю камеру без дежурного и совершенно по–человечески, нет, это дороже, чем просто
по–человечески! — обращался: «Доброе утро!»
К кому же ещё на земле оно было добрее, чем к ним! Благодарные за теплоту этого
голоса и теплоту этой жижи, они теперь засыпали до полудня. (Только–то утром они и ели!
Уже проснувшись днём, многие есть не могли. Кто–то получал передачи — родственники
могли знать, а могли и не знать о смертном приговоре, — передачи эти становились в камере
общими, но лежали и гнили в затхлой сырости.)
Днём ещё было в камере лёгкое оживление. Приходил начальник корпуса — или
мрачный Тараканов, или расположенный Макаров, — предлагал бумаги на заявления,
спрашивал, не хотят ли, у кого есть деньги, выписать покурить из ларька. Эти вопросы
казались или слишком дикими, или чрезвычайно человечными: делался вид, что они никакие
и не смертники?
Осуждённые выламывали донья спичечных коробок, размечали их как домино и
играли. Власов разряжался тем, что рассказывал кому–нибудь о потребительской
кооперации, а это всегда приобретает у него комический оттенок. (Его рассказы о
кооперации замечательны и достойны отдельного изложения.) Яков Петрович Колпаков,
председатель Судо–годского райисполкома, большевик с весны 1917 года, с фронта, сидел
десятки дней, не меняя позы, стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в
одну и ту же точку стены. (Весёлой же и лёгкой должна была ему вспоминаться весна 17–го
года!.. А кого–то (офицеров) и тогда убивали.) Говорливость Власова его раздражала: «Как
ты можешь?» — «А ты к раю готовишься? — огрызался Власов, сохраняя и в быстрой речи
круглое оканье. — Я только одно себе положил — скажу палачу: ты — один! не судьи, не
прокуроры, — ты один виноват в моей смерти, с этим теперь и живи! Если б не было вас,
палачей–добровольцев, не было б и смертных приговоров! И пусть убивает, гад!»
Колпаков был расстрелян. Расстрелян был Константин Сергеевич Аркадьев, бывший
заведующий Александровского (Владимирской области) райзо. Прощание с ним почему–то
прошло особенно тяжело. Среди ночи притопали за ним шесть человек охраны, резко
торопили, а он, мягкий, воспитанный, долго вертел и мял шапку в руках, оттягивая момент
ухода — ухода от последних земных людей. И когда говорил последнее «прощайте», голоса
почти совсем уже не было.