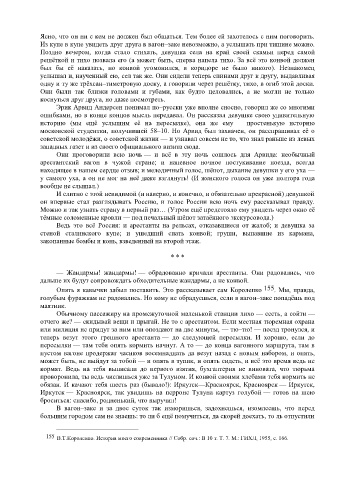Page 259 - Архипелаг ГУЛаг
P. 259
Ясно, что он ни с кем не должен был общаться. Тем более ей захотелось с ним поговорить.
Из купе в купе увидеть друг друга в вагон–заке невозможно, а услышать при тишине можно.
Поздно вечером, когда стало стихать, девушка села на край своей скамьи перед самой
решёткой и тихо позвала его (а может быть, сперва напела тихо. За всё это конвой должен
был бы её наказать, но конвой угомонился, в коридоре не было никого). Незнакомец
услышал и, наученный ею, сел так же. Они сидели теперь спинами друг к другу, выдавливая
одну и ту же трёхсан–тиметровую доску, а говорили через решётку, тихо, в огиб этой доски.
Они были так близки головами и губами, как будто целовались, а не могли не только
коснуться друг друга, но даже посмотреть.
Эрик Арвид Андерсен понимал по–русски уже вполне сносно, говорил же со многими
ошибками, но в конце концов мысль передавал. Он рассказал девушке свою удивительную
историю (мы ещё услышим её на пересылке), она же ему — простенькую историю
московской студентки, получившей 58–10. Но Арвид был захвачен, он расспрашивал её о
советской молодёжи, о советской жизни — и узнавал совсем не то, что знал раньше из левых
западных газет и из своего официального визита сюда.
Они проговорили всю ночь — и всё в эту ночь сошлось для Арвида: необычный
арестантский вагон в чужой стране; и напевное ночное постукивание поезда, всегда
находящее в нашем сердце отзыв; и мелодичный голос, шёпот, дыхание девушки у его уха —
у самого уха, а он не мог на неё даже взглянуть! (И женского голоса он уже полтора года
вообще не слышал.)
И слитно с этой невидимой (и наверно, и конечно, и обязательно прекрасной) девушкой
он впервые стал разглядывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду.
Можно и так узнать страну в первый раз… (Утром ещё предстояло ему увидеть через окно её
тёмные соломенные кровли — под печальный шёпот затаённого экскурсовода.)
Ведь это всё Россия: и арестанты на рельсах, отказавшиеся от жалоб; и девушка за
стеной сталинского купе; и ушедший спать конвой; груши, выпавшие из кармана,
закопанные бомбы и конь, взведенный на второй этаж.
* * *
— Жандармы! жандармы! — обрадованно кричали арестанты. Они радовались, что
дальше их будут сопровождать обходительные жандармы, а не конвой.
Опять я кавычки забыл поставить. Это рассказывает сам Короленко 155 . Мы, правда,
голубым фуражкам не радовались. Но кому не обрадуешься, если в вагон–заке попадёшь под
маятник.
Обычному пассажиру на промежуточной маленькой станции лихо — сесть, а сойти —
отчего же? — скидывай вещи и прыгай. Не то с арестантом. Если местная тюремная охрана
или милиция не придут за ним или опоздают на две минуты, — тю–тю! — поезд тронулся, и
теперь везут этого грешного арестанта — до следующей пересылки. И хорошо, если до
пересылки — там тебя опять кормить начнут. А то — до конца вагонного маршрута, там в
пустом вагоне продержат часиков восемнадцать да везут назад с новым набором, и опять,
может быть, не выйдут за тобой — и опять в тупик, и опять сидеть, и всё это время ведь не
кормят. Ведь на тебя выписали до первого взятия, бухгалтерия не виновата, что тюрьма
проворонила, ты ведь числишься уже за Тулуном. И конвой своими хлебами тебя кормить не
обязан. И качают тебя шесть раз (бывало!): Иркутск—Красноярск, Красноярск — Иркутск,
Иркутск — Красноярск, так увидишь на перроне Тулуна картуз голубой — готов на шею
броситься: спасибо, родненький, что выручил!
В вагон–заке и за двое суток так изморишься, задохнешься, изомлеешь, что перед
большим городом сам не знаешь: то ли б ещё помучиться, да скорей доехать, то ль отпустили
155 В.Т.Короленко. История моего современника // Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М.: ГИХЛ, 1955, с. 166.