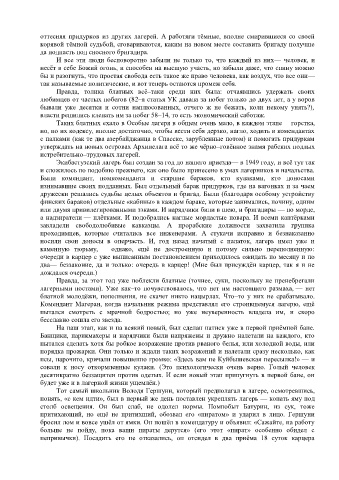Page 638 - Архипелаг ГУЛаг
P. 638
оттесняя придурков из других лагерей. А работяги тёмные, вполне смирившиеся со своей
корявой тёмной судьбой, сговариваются, каким на новом месте составить бригаду получше
да подпасть под сносного бригадира.
И все эти люди бесповоротно забыли не только то, что каждый из них— человек, и
несёт в себе Божий огонь, и способен на высшую участь, но забыли даже, что спину можно
бы и разогнуть, что простая свобода есть такое же право человека, как воздух, что все они—
так называемые политические, и вот теперь остаются промеж себя.
Правда, толика блатных всё–таки среди них была: отчаявшись удержать своих
любимцев от частых побегов (82–я статья УК давала за побег только до двух лет, а у воров
бывали уже десятки и сотни наплюсованных, отчего ж не бежать, коли некому унять?),
власти решились клепать им за побег 58–14, то есть экономический саботаж.
Таких блатных ехало в Особые лагеря в общем очень мало, в каждом этапе— горстка,
но, по их кодексу, вполне достаточно, чтобы вести себя дерзко, нагло, ходить в комендантах
с палками (как те два азербайджанца в Спасске, зарубленные потом) и помогать придуркам
утверждать на новых островах Архипелага всё то же чёрно–говённое знамя рабских подлых
истребительно–трудовых лагерей.
Экибастузский лагерь был создан за год до нашего приезда— в 1949 году, и всё тут так
и сложилось по подобию прежнего, как оно было принесено в умах лагерников и начальства.
Были комендант, помкоменданта и старшие бараков, кто кулаками, кто доносами
изнимавшие своих подданных. Был отдельный барак придурков, где на вагонках и за чаем
дружески решались судьбы целых объектов и бригад. Были (благодаря особому устройству
финских бараков) отдельные «кабины» в каждом бараке, которые занимались, почину, одним
или двумя привилегированными зэками. И нарядчики били в шею, и бригадиры — по морде,
а надзиратели — плётками. И подобрались наглые мордастые повара. И всеми каптёрками
завладели свободолюбивые кавказцы. А прорабские должности захватила группка
проходимцев, которые считались все инженерами. А стукачи исправно и безнаказанно
носили свои доносы в оперчасть. И, год назад начатый с палаток, лагерь имел уже и
каменную тюрьму, — однако, ещё не достроенную и потому сильно переполненную:
очереди в карцер с уже выписанным постановлением приходилось ожидать по месяцу и по
два— беззаконие, да и только: очередь в карцер! (Мне был присуждён карцер, так я и не
дождался очереди.)
Правда, за этот год уже поблекли блатные (точнее, суки, поскольку не пренебрегали
лагерными постами). Уже как–то почувствовалось, что нет им настоящего размаха, — нет
блатной молодёжи, пополнения, не скачет никто нацырлах. Что–то у них не срабатывало.
Комендант Магеран, когда начальник режима представлял его строившемуся лагерю, ещё
пытался смотреть с мрачной бодростью; но уже неуверенность владела им, и скоро
бесславно сошла его звезда.
На наш этап, как и на всякий новый, был сделан натиск уже в первой приёмной бане.
Банщики, парикмахеры и нарядчики были напряжены и дружно налетали на каждого, кто
пытался сделать хотя бы робкое возражение против рваного белья, или холодной воды, или
порядка прожарки. Они только и ждали таких возражений и налетали сразу несколько, как
псы, нарочито, кричали повышенно громко: «Здесь вам не Куйбышевская пересылка!» — и
совали к носу откормленные кулаки. (Это психологически очень верно. Голый человек
десятикратно беззащитен против одетых. И если новый этап припугнуть в первой бане, он
будет уже и в лагерной жизни ущемлён.)
Тот самый школьник Володя Гершуни, который предполагал в лагере, осмотревшись,
понять, «с кем идти», был в первый же день поставлен укреплять лагерь — копать яму под
столб освещения. Он был слаб, не одолел нормы. Помпобыт Батурин, из сук, тоже
притихающий, но ещё не притихший, обозвал его «пиратом» и ударил в лицо. Гершуни
бросил лом и вовсе ушёл от ямки. Он пошёл в комендатуру и объявил: «Сажайте, на работу
больше не пойду, пока ваши пираты дерутся» (его этот «пират» особенно обидел с
непривычки). Посадить его не отказались, он отсидел в два приёма 18 суток карцера