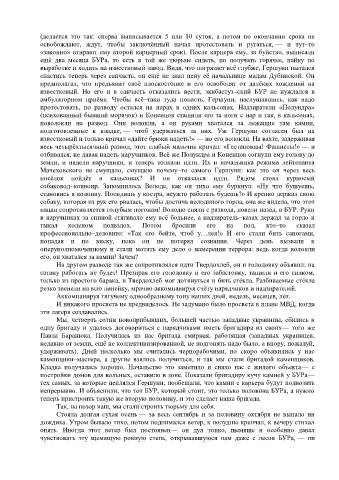Page 639 - Архипелаг ГУЛаг
P. 639
(делается это так: сперва выписывается 5 или 10 суток, а потом по окончании срока не
освобождают, ждут, чтобы заключённый начал протестовать и ругаться, — и тут–то
«законно» втирают ему второй карцерный срок). После карцера ему, за буйство, выписали
ещё два месяца БУРа, то есть в той же тюрьме сидеть, но получать горячее, пайку по
выработке и ходить на известковый завод. Видя, что погрязает всё глубже, Гершуни пытался
спастись теперь через санчасть, он ещё не знал цену её начальнице мадам Дубинской. Он
предполагал, что предъявит своё плоскостопие и его освободят от далёких хождений на
известковый. Но его и в санчасть отказались вести, экибастуз–ский БУР не нуждался в
амбулаторном приёме. Чтобы всё–таки туда попасть, Гершуни, наслушавшись, как надо
протестовать, по разводу остался на нарах в одних кальсонах. Надзиратели «Полундра»
(психованный бывший морячок) и Коненцов стащили его за ноги с нар и так, в кальсонах,
поволокли на развод. Они волокли, а он руками хватался за лежащие там камни,
подготовленные к кладке, — чтоб удержаться за них. Уж Гершуни согласен был на
известковый и только кричал «дайте брюки надеть!» — но его волокли. На вахте, задерживая
весь четырёхтысячный развод, этот слабый мальчик кричал: «Гестаповцы! Фашисты!» — и
отбивался, не давая надеть наручников. Всё же Полундра и Коненцов согнули ему голову до
земли, и надели наручники, и теперь толкали идти. Их и начальника режима лейтенанта
Мачеховского не смущало, смущало почему–то самого Гершуни: как это он через весь
посёлок пойдёт в кальсонах? И он отказался идти. Рядом стоял курносый
собаковод–конвоир. Запомнилось Володе, как он тихо ему буркнул: «Ну что бушуешь,
становись в колонну. Посидишь у костра, неужто работать будешь?» И крепко держал свою
собаку, которая из рук его рвалась, чтобы достичь володиного горла, она же видела, что этот
пацан сопротивляется голубым погонам! Володю сняли с развода, повели назад, в БУР. Руки
в наручниках за спиной стягивало ему всё больнее, а надзиратель–казах держал за горло и
тыкал коленом подвздох. Потом бросили его на пол, кто–то сказал
профессионально–деловито: «Так его бейте, чтоб у…лея!» И его стали бить сапогами,
попадая и по виску, пока он не потерял сознания. Через день вызвали к
оперуполномоченному и стали мотать ему дело о намерении террора: ведь когда волокли
его, он хватался за камни! Зачем?
На другом разводе так же сопротивлялся идти Твердохлеб, он и голодовку объявил: на
сатану работать не будет! Презирая его голодовку и его забастовку, тащили и его силком,
только из простого барака, и Твердохлеб мог дотянуться и бить стёкла. Разбиваемые стёкла
резко звенели на всю линейку, мрачно аккомпанируя счёту нарядчиков и надзирателей.
Аккомпанируя тягучему однообразному тону наших дней, недель, месяцев, лет.
И никакого просвета не предвиделось. Не задумано было просвета в плане МВД, когда
эти лагеря создавались.
Мы, четверть сотни новоприбывших, большей частью западные украинцы, сбились в
одну бригаду и удалось договориться с нарядчиками иметь бригадира из своих— того же
Павла Баранюка. Получилась из нас бригада смирная, работящая (западных украинцев,
недавно от земли, ещё не коллективизированной, не подгонять надо было, а впору, пожалуй,
удерживать). Дней несколько мы считались чернорабочими, но скоро объявились у нас
каменщики–мастера, а другие взялись получиться, и так мы стали бригадой каменщиков.
Кладка получалась хорошо. Начальство это заметило и сняло нас с жилого объекта— с
постройки домов для вольных, оставило в зоне. Показали бригадиру кучу камней у БУРа—
тех самых, за которые цеплялся Гершуни, пообещали, что камни с карьера будут подвозить
непрерывно. И объяснили, что тот БУР, который стоит, это только половина БУРа, а нужно
теперь пристроить такую же вторую половину, и это сделает наша бригада.
Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя.
Стояла долгая сухая осень — за весь сентябрь и за половину октября не выпало ни
дождика. Утром бывало тихо, потом поднимался ветер, к полудню крепчал, к вечеру стихал
опять. Иногда этот ветер был постоянен— он дул тонко, щемяще и особенно давал
чувствовать эту щемящую ровную степь, открывавшуюся нам даже с лесов БУРа, — ни