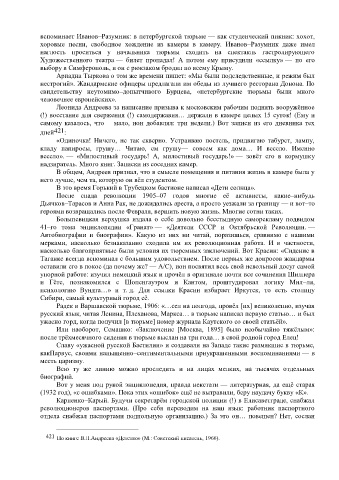Page 647 - Архипелаг ГУЛаг
P. 647
вспоминает Иванов–Разумник: в петербургской тюрьме — как студенческий пикник: хохот,
хоровые песни, свободное хождение из камеры в камеру. Иванов–Разумник даже имел
наглость проситься у начальника тюрьмы сходить на спектакль гастролирующего
Художественного театра — билет пропадал! А потом ему присудили «ссылку» — по его
выбору в Симферополь, и он с рюкзаком бродил по всему Крыму.
Ариадна Тыркова о том же времени пишет: «Мы были подследственные, и режим был
нестрогий». Жандармские офицеры предлагали им обеды из лучшего ресторана Донона. По
свидетельству неутомимо–допытчивого Бурцева, «петербургские тюрьмы были много
человечнее европейских».
Леонида Андреева за написание призыва к московским рабочим поднять вооружённое
(!) восстание для свержения (!) самодержавия… держали в камере целых 15 суток! (Ему и
самому казалось, что— мало, ион добавлял: три недели.) Вот записи из его дневника тех
дней 421 :
«Одиночка! Ничего, не так скверно. Устраиваю постель, придвигаю табурет, лампу,
кладу папиросы, грушу… Читаю, ем грушу— совсем как дома… И весело. Именно
весело». — «Милостивый государь! А, милостивый государь!» — зовёт его в кормушку
надзиратель. Много книг. Записки из соседних камер.
В общем, Андреев признал, что в смысле помещения и питания жизнь в камере была у
него лучше, чем та, которую он вёл студентом.
В это время Горький в Трубецком бастионе написал «Дети солнца».
После спада революции 1905–07 годов многие её активисты, какие–нибудь
Дьячков–Тарасов и Анна Рак, не дожидались ареста, а просто уезжали за границу — и вот–то
героями возвращались после Февраля, вершить новую жизнь. Многие сотни таких.
Болыпевицкая верхушка издала о себе довольно бесстыдную саморекламу подвидом
41–го тома энциклопедии «Гранат» — «Деятели СССР и Октябрьской Революции. —
Автобиографии и биографии». Какую из них ни читай, поразишься, сравнимо с нашими
мерками, насколько безнаказанно сходила им их революционная работа. И в частности,
насколько благоприятные были условия их тюремных заключений. Вот Красин: «Сидение в
Таганке всегда вспоминал с большим удовольствием. После первых же допросов жандармы
оставили его в покое (да почему же? — А/С), ион посвятил весь свой невольный досуг самой
упорной работе: изучил немецкий язык и прочёл в оригинале почти все сочинения Шиллера
и Гёте, познакомился с Шопенгауэром и Кантом, проштудировал логику Мил–ля,
психологию Вундта…» и т. д. Для ссылки Красин избирает Иркутск, то есть столицу
Сибири, самый культурный город её.
Радек в Варшавской тюрьме, 1906: «…сел на полгода, провёл [их] великолепно, изучая
русский язык, читая Ленина, Плеханова, Маркса… в тюрьме написал первую статью… и был
ужасно горд, когда получил [в тюрьме] номер журнала Каутского со своей статьёй».
Или наоборот, Семашко: «Заключение [Москва, 1895] было необычайно тяжёлым»:
после трёхмесячного сидения в тюрьме выслан на три года… в свой родной город Елец!
Славу «ужасной русской Бастилии» и создавали на Западе такие размякшие в тюрьме,
какПарвус, своими напыщенно–сентиментальными приукрашенными воспоминаниями — в
месть царизму.
Всю ту же линию можно проследить и на лицах мелких, на тысячах отдельных
биографий.
Вот у меня под рукой энциклопедия, правда некстати — литературная, да ещё старая
(1932 год), «с ошибками». Пока этих «ошибок» ещё не вытравили, беру наудачу букву «К».
Карпенко–Карый. Будучи секретарём городской полиции (!) в Елисаветграде, снабжал
революционеров паспортами. (Про себя переводим на наш язык: работник паспортного
отдела снабжал паспортами подпольную организацию.) За это он… повешен? Нет, сослан
421 По книге В.Л.Андреева «Детство» (М.: Советский писатель, 1966).