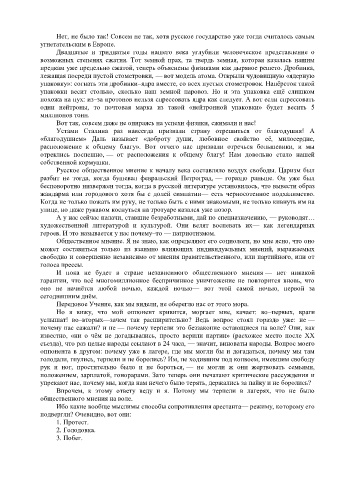Page 651 - Архипелаг ГУЛаг
P. 651
Нет, не было так! Совсем не так, хотя русское государство уже тогда считалось самым
угнетательским в Европе.
Двадцатые и тридцатые годы нашего века углубили человеческое представление о
возможных степенях сжатия. Тот земной прах, та твердь земная, которая казалась нашим
предкам уже предельно сжатой, теперь объяснены физиками как дырявое решето. Дробинка,
лежащая посреди пустой стометровки, — вот модель атома. Открыли чудовищную «ядерную
упаковку»: согнать эти дробинки–ядра вместе, со всех пустых стометровок. Напёрсток такой
упаковки весит столько, сколько наш земной паровоз. Но и эта упаковка ещё слишком
похожа на пух: из–за протонов нельзя спрессовать ядра как следует. А вот если спрессовать
одни нейтроны, то почтовая марка из такой «нейтронной упаковки» будет весить 5
миллионов тонн.
Вот так, совсем даже не опираясь на успехи физики, сжимали и нас!
Устами Сталина раз навсегда призвали страну отрешиться от благодушия! А
«благодушием» Даль называет «доброту души, любовное свойство её, милосердие,
расположение к общему благу». Вот отчего нас призвали отречься большевики, и мы
отреклись поспешно, — от расположения к общему благу! Нам довольно стало нашей
собственной кормушки.
Русское общественное мнение к началу века составляло воздух свободы. Царизм был
разбит не тогда, когда бушевал февральский Петроград, — гораздо раньше. Он уже был
бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе установилось, что вывести образ
жандарма или городового хотя бы с долей симпатии— есть черносотенное подхалимство.
Когда не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми, не только кивнуть им на
улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казался уже позор.
А у нас сейчас палачи, ставшие безработными, дай по спецназначению, — руководят…
художественной литературой и культурой. Они велят воспевать их— как легендарных
героев. И это называется у нас почему–то — патриотизмом.
Общественное мнение. Я не знаю, как определяют его социологи, но мне ясно, что оно
может составиться только из взаимно влияющих индивидуальных мнений, выражаемых
свободно и совершенно независимо от мнения правительственного, или партийного, или от
голоса прессы.
И пока не будет в стране независимого общественного мнения — нет никакой
гарантии, что всё многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что
оно не начнётся любой ночью, каждой ночью— вот этой самой ночью, первой за
сегодняшним днём.
Передовое Учение, как мы видели, не оберегло нас от этого мора.
Но я вижу, что мой оппонент кривится, моргает мне, качает: во–первых, враги
услышат! во–вторых—зачем так расширительно? Ведь вопрос стоял гораздо уже: не —
почему нас сажали? и не — почему терпели это беззаконие остающиеся на воле? Они, как
известно, «ни о чём не догадывались, просто верили партии» (расхожее место после XX
съезда), что раз целые народы ссылают в 24 часа, — значит, виноваты народы. Вопрос моего
оппонента в другом: почему уже в лагере, где мы могли бы и догадаться, почему мы там
голодали, гнулись, терпели и не боролись? Им, не ходившим под конвоем, имевшим свободу
рук и ног, простительно было и не бороться, — не могли ж они жертвовать семьями,
положением, зарплатой, гонорарами. Зато теперь они печатают критические рассуждения и
упрекают нас, почему мы, когда нам нечего было терять, держались за пайку и не боролись?
Впрочем, к этому ответу веду и я. Потому мы терпели в лагерях, что не было
общественного мнения на воле.
Ибо какие вообще мыслимы способы сопротивления арестанта— режиму, которому его
подвергли? Очевидно, вот они:
1. Протест.
2. Голодовка.
3. Побег.