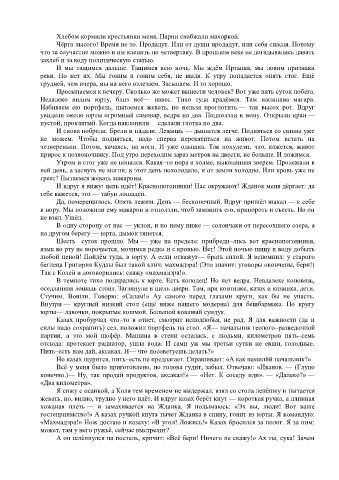Page 686 - Архипелаг ГУЛаг
P. 686
Хлебом кормили крестьянки меня, Парни снабжали махоркой.
Чёрта лысого! Время не то. Продадут. Или от души продадут, или себя спасая. Потому
что за соучастие можно и им влепить по четвертаку. В прошлом веке не догадывались давать
захлеб и за воду политическую статью.
И мы тащимся дальше. Тащимся всю ночь. Мы ждём Иртыша, мы ловим признаки
реки. Но нет их. Мы гоним и гоним себя, не щадя. К утру попадается опять стог. Ещё
трудней, чем вчера, мы на него взлезаем. Засыпаем. И то хорошо.
Просыпаемся к вечеру. Сколько же может вынести человек? Вот уже пять суток побега.
Недалеко видим юрту, близ неё— навес. Тихо туда крадёмся. Там насыпана магара.
Набиваем ею портфель, пытаемся жевать, но нельзя проглотить — так высох рот. Вдруг
увидели около юрты огромный самовар, ведра на два. Подползли к нему. Открыли кран —
пустой, проклятый. Когда наклонили— сделали глотка по два.
И снова побрели. Брели и падали. Лежишь — дышится легче. Подняться со спины уже
не можем. Чтобы подняться, надо сперва перекатиться на живот. Потом встать на
четвереньки. Потом, качаясь, на ноги. И уже одышка. Так похудели, что, кажется, живот
прирос к позвоночнику. Под утро переходим зараз метров на двести, не больше. И ложимся.
Утром и стог уже не попался. Какая–то нора в холме, выкопанная зверем. Пролежали в
ней день, а заснуть не могли; в этот день похолодало, и от земли холодно. Или кровь уже не
греет? Пытаемся жевать макароны.
И вдруг я вижу: цепь идёт! Краснопогонники! Нас окружают! Жданок меня дёргает: да
тебе кажется, это — табун лошадей.
Да, померещилось. Опять лежим. День — бесконечный. Вдруг пришёл шакал — к себе
в нору. Мы положили ему макарон и отползли, чтоб заманить его, припороть и съесть. Но он
не взял. Ушёл.
В одну сторону от нас — уклон, и по нему ниже — солончаки от пересохшего озера, а
на другом берегу — юрта, дымок тянется.
Шесть суток прошло. Мы — уже на пределе: прибреди–лись вот краснопогонники,
язык во рту не ворочается, мочимся редко и с кровью. Нет! Этой ночью пищу и воду добыть
любой ценой! Пойдём туда, в юрту. А если откажут— брать силой. Я вспомнил: у старого
беглеца Григория Кудлы был такой клич: махмадэра! (Это значит: уговоры окончены, бери!)
Так с Колей и договорились: скажу «махмадэра!».
В темноте тихо подкрались к юрте. Есть колодец! Но нет ведра. Невдалеке коновязь,
оседланная лошадь стоит. Заглянули в щель двери. Там, при коптилке, казах и казашка, дети.
Стучим. Вошли. Говорю: «Салам!» Ау самого перед глазами круги, как бы не упасть.
Внутри — круглый низкий стол (ещё ниже нашего модерна) для бешбармака. По кругу
юрты— лавочки, покрытые кошмой. Большой кованый сундук.
Казах пробурчал что–то в ответ, смотрит исподлобья, не рад. Я для важности (да и
силы надо сохранить) сел, положил портфель на стол. «Я— начальник геолого–разведочной
партии, а это мой шофёр. Машина в степи осталась, с людьми, километров пять–семь
отсюда: протекает радиатор, ушла вода. И сами уж мы третьи сутки не евши, голодные.
Пить–есть нам дай, аксакал. И— что посоветуешь делать?»
Но казах щурится, пить–есть не предлагает. Спрашивает: «А как памилйй начальник?»
Всё у меня было приготовлено, но голова гудит, забыл. Отвечаю: «Иванов. — (Глупо
конечно.)— Ну, так продай продуктов, аксакал!» — «Нет. К соседу иди». — «Далеко?» —
«Два километра».
Я сижу с осанкой, а Коля тем временем не выдержал, взял со стола лепёшку и пытается
жевать, но, видно, трудно у него идёт. И вдруг казах берёт кнут — короткая ручка, а длинная
кожаная плеть — и замахивается на Жданка. Я подымаюсь: «Эх вы, люди! Вот ваше
гостеприимство!» А казах ручкой кнута тычет Жданка в спину, гонит из юрты. Я командую:
«Махмадэра!» Нож достаю и казаху: «В угол! Ложись!» Казах бросился за полог. Я за ним:
может, там у него ружьё, сейчас выстрелит?
А он шлёпнулся на постель, кричит: «Всё бери! Ничего не скажу!» Ах ты, сука! Зачем