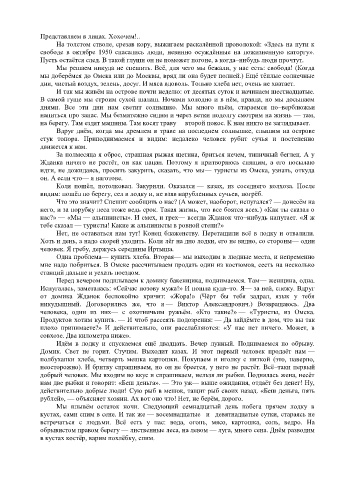Page 690 - Архипелаг ГУЛаг
P. 690
Представляем в лицах. Хохочем!..
На толстом стволе, срезав кору, выжигаем раскалённой проволокой: «Здесь на пути к
свободе в октябре 1950 спасались люди, невинно осуждённые на пожизненную каторгу».
Пусть остаётся след. В такой глуши он не поможет погоне, а когда–нибудь люди прочтут.
Мы решаем никуда не спешить. Всё, для чего мы бежали, у нас есть: свобода! (Когда
мы доберёмся до Омска или до Москвы, вряд ли она будет полней.) Ещё тёплые солнечные
дни, чистый воздух, зелень, досуг. И мяса вдоволь. Только хлеба нет, очень не хватает.
И так мы живём на острове почти неделю: от десятых суток и начинаем шестнадцатые.
В самой гуще мы строим сухой шалаш. Ночами холодно и в нём, правда, но мы досыпаем
днями. Все эти дни нам светит солнышко. Мы много пьём, стараемся по–верблюжьи
напиться про запас. Мы безмятежно сидим и через ветки подолгу смотрим на жизнь — там,
на берегу. Там ездят машины. Там косят траву— второй покос. К нам никто не заглядывает.
Вдруг днём, когда мы дремлем в траве на последнем солнышке, слышим на острове
стук топора. Приподнимаемся и видим: недалеко человек рубит сучья и постепенно
движется к нам.
За полмесяца я оброс, страшная рыжая щетина, бриться нечем, типичный беглец. А у
Жданка ничего не растёт, он как пацан. Поэтому я притворяюсь спящим, а его посылаю
идти, не дожидаясь, просить закурить, сказать, что мы— туристы из Омска, узнать, откуда
он. А если что— я наготове.
Коля пошёл, потолковал. Закурили. Оказался — казах, из соседнего колхоза. После
видим: пошёл по берегу, сел в лодку и, не взяв нарубленных сучьев, погрёб.
Что это значит? Спешит сообщить о нас? (А может, наоборот, испугался? — донесём на
него, и за порубку леса тоже ведь срок. Такая жизнь, что все боятся всех.) «Как ты сказал о
нас?» — «Мы — альпинисты». И смех, и грех— всегда Жданок что–нибудь напутает. «Я ж
тебе сказал — туристы! Какие ж альпинисты в ровной степи?»
Нет, не оставаться нам тут! Конец блаженству. Перетащили всё в лодку и отвалили.
Хоть и день, а надо скорей уходить. Коля лёг на дно лодки, его не видно, со стороны— один
человек. Я гребу, держусь середины Иртыша.
Одна проблема— купить хлеба. Вторая— мы выходим в людные места, и непременно
мне надо побриться. В Омске рассчитываем продать один из костюмов, сесть на несколько
станций дальше и уехать поездом.
Перед вечером подплываем к домику бакенщика, поднимаемся. Там— женщина, одна.
Испугалась, заметалась: «Сейчас позову мужа!» И пошла куда–то. Я— за ней, слежу. Вдруг
от домика Жданок беспокойно кричит: «Жора!» (Чёрт бы тебя задрал, язык у тебя
никудышный. Договорились же, что я — Виктор Александрович.) Возвращаюсь. Два
человека, один из них— с охотничьим ружьём. «Кто такие?» — «Туристы, из Омска.
Продуктов хотим купить. — И чтоб рассеять подозрения: — Да зайдёмте в дом, что вы так
плохо принимаете?» И действительно, они расслабляются: «У нас нет ничего. Может, в
совхозе. Два километра ниже».
Идём в лодку и спускаемся ещё двадцать. Вечер лунный. Поднимаемся по обрыву.
Домик. Свет не горит. Стучим. Выходит казах. И этот первый человек продаёт нам —
полбуханки хлеба, четверть мешка картошки. Покупаем и иголку с ниткой (это, наверно,
неосторожно). И бритву спрашиваем, но он не бреется, у него не растёт. Всё–таки первый
добрый человек. Мы входим во вкус и спрашиваем, нельзя ли рыбки. Поднялась жена, несёт
нам две рыбки и говорит: «Беш деньга». — Это уж— выше ожидания, отдаёт без денег! Ну,
действительно добрые люди! Сую рыб в мешок, тащит рыб своих назад. «Беш деньга, пять
рублей», — объясняет хозяин. Ах вот оно что! Нет, не берём, дорого.
Мы плывём остаток ночи. Следующий семнадцатый день побега прячем лодку в
кустах, сами спим в сене. И так же — восемнадцатые и девятнадцатые сутки, стараясь не
встречаться с людьми. Всё есть у нас: вода, огонь, мясо, картошка, соль, ведро. На
обрывистом правом берегу — лиственные леса, на левом — луга, много сена. Днём разводим
в кустах костёр, варим похлёбку, спим.