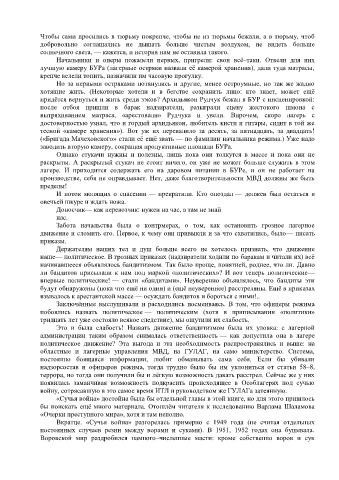Page 724 - Архипелаг ГУЛаг
P. 724
Чтобы сами просились в тюрьму покрепче, чтобы не из тюрьмы бежали, а в тюрьму, чтоб
добровольно соглашались не дышать больше чистым воздухом, не видеть больше
солнечного света, — кажется, и история нам не оставила такого.
Начальники и оперы пожалели первых, пригрели: свои всё–таки. Отвели для них
лучшую камеру БУРа (лагерные остряки назвали её камерой хранения), дали туда матрасы,
крепче велели топить, назначили им часовую прогулку.
Но за первыми остряками потянулись и другие, менее остроумные, но так же жадно
хотящие жить. (Некоторые хотели и в бегстве сохранить лицо: кто знает, может ещё
придётся вернуться и жить среди зэков? Архидьякон Рудчук бежал в БУР с инсценировкой:
после отбоя пришли в барак надзиратели, разыграли сцену жестокого шмона с
вытряхиванием матраса, «арестовали» Рудчука и увели. Впрочем, скоро лагерь с
достоверностью узнал, что и гордый архидьякон, любитель кисти и гитары, сидит в той же
тесной «камере хранения»). Вот уж их перевалило за десять, за пятнадцать, за двадцать!
(«Бригада Мачеховского» стали её ещё звать — по фамилии начальника режима.) Уже надо
заводить вторую камеру, сокращая продуктивные площади БУРа.
Однако стукачи нужны и полезны, лишь пока они толкутся в массе и пока они не
раскрыты. А раскрытый стукач не стоит ничего, он уже не может больше служить в этом
лагере. И приходится содержать его на даровом питании в БУРе, и он не работает на
производстве, себя не оправдывает. Нет, даже благотворительности МВД должны же быть
пределы!
И поток молящих о спасении — прекратили. Кто опоздал — должен был остаться в
овечьей шкуре и ждать ножа.
Доносчик— как перевозчик: нужен на час, а там не знай
нас.
Забота начальства была о контрмерах, о том, как остановить грозное лагерное
движение и сломить его. Первое, к чему они привыкли и за что схватились, было— писать
приказы.
Держателям наших тел и душ больше всего не хотелось признать, что движение
наше— политическое. В грозных приказах (надзиратели ходили по баракам и читали их) всё
начинавшееся объявлялось бандитизмом. Так было проще, понятней, роднее, что ли. Давно
ли бандитов присылали к нам под маркой «политических»? И вот теперь политические—
впервые политические! — стали «бандитами». Неуверенно объявлялось, что бандиты эти
будут обнаружены (пока что ещё ни один) и (ещё неувереннее) расстреляны. Ещё в приказах
взывалось к арестантской массе — осуждать бандитов и бороться с ними!..
Заключённые выслушивали и расходились посмеиваясь. В том, что офицеры режима
побоялись назвать политическое — политическим (хотя в приписывании «политики»
тридцать лет уже состояло всякое следствие), мы ощутили их слабость.
Это и была слабость! Назвать движение бандитизмом была их уловка: с лагерной
администрации таким образом снималась ответственность — как допустила она в лагере
политическое движение? Эта выгода и эта необходимость распространялись и выше: на
областные и лагерные управления МВД, на ГУЛАГ, на само министерство. Система,
постоянно боящаяся информации, любит обманывать сама себя. Если бы убивали
надзорсостав и офицеров режима, тогда трудно было бы им уклониться от статьи 58–8,
террора, но тогда они получили бы и лёгкую возможность давать расстрел. Сейчас же у них
появилась заманчивая возможность подкрасить происходящее в Особлагерях под сучью
войну, сотрясавшую в это самое время ИТЛ и руководством же ГУЛАГа затеянную.
«Сучья война» достойна была бы отдельной главы в этой книге, но для этого пришлось
бы поискать ещё много материала. Отошлём читателя к исследованию Варлама Шаламова
«Очерки преступного мира», хотя и там неполно.
Вкратце. «Сучья война» разгорелась примерно с 1949 года (не считая отдельных
постоянных случаев резни между ворами и суками). В 1951, 1952 годах она бушевала.
Воровской мир раздробился намного–численные масти: кроме собственно воров и сук