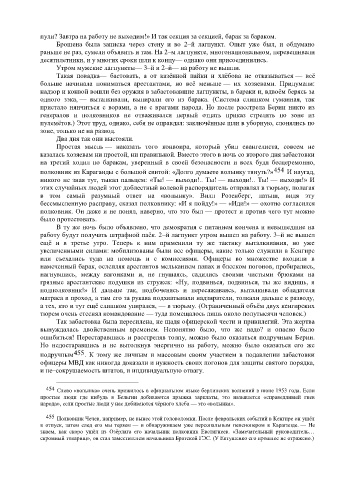Page 747 - Архипелаг ГУЛаг
P. 747
пули? Завтра на работу не выходим!» И так секция за секцией, барак за бараком.
Брошена была записка через стену и во 2–й лагпункт. Опыт уже был, и обдумано
раньше не раз, сумели объявить и там. На 2–м лагпункте, многонациональном, перевешивали
десятилетники, и у многих сроки шли к концу— однако они присоединились.
Утром мужские лагпункты— 3–й и 2–й— на работу не вышли.
Такая повадка— бастовать, а от казённой пайки и хлёбова не отказываться — всё
больше начинала пониматься арестантами, но всё меньше — их хозяевами. Придумали:
надзор и конвой вошли без оружия в забастовавшие лагпункты, в бараки и, вдвоём берясь за
одного зэка, — выталкивали, выпирали его из барака. (Система слишком гуманная, так
пристало нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из
генералов и полковников не отваживался первый отдать приказ стрелять по зоне из
пулемётов.) Этот труд, однако, себя не оправдал: заключённые шли в уборную, слонялись по
зоне, только не на развод.
Два дня так они выстояли.
Простая мысль — наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не
казалась хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки
на третий ходил по баракам, уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно,
полковник из Караганды с большой свитой: «Долго думаете волынку тянуть?» 454 И наугад,
никого не зная тут, тыкал пальцем: «Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!» И
этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая
в том самый разумный ответ на «волынку». Вилл Розенберг, латыш, видя эту
бессмысленную расправу, сказал полковнику: «И я пойду!» — «Иди!» — охотно согласился
полковник. Он даже и не понял, наверно, что это был — протест и против чего тут можно
было протестовать.
В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена и невышедшие на
работу будут получать штрафной паёк. 2–й лагпункт утром вышел на работу. 3–й не вышел
ещё и в третье утро. Теперь к ним применили ту же тактику выталкивания, но уже
увеличенными силами: мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире
или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в
намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием папах и блеском погонов, пробирались,
нагнувшись, между вагонками и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на
грязные арестантские подушки из стружек: «Ну, подвинься, подвинься, ты же видишь, я
подполковник!» И дальше так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя
матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали дальше к разводу,
а тех, кто и тут ещё слишком упирался, — в тюрьму. (Ограниченный объём двух кенгирских
тюрем очень стеснял командование — туда помещалось лишь около полутысячи человек.)
Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва
вынуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо? и опасно было
ошибиться! Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии.
Но недостаравшись и не вытолкнув энергично на работу, можно было оказаться его же
подручным 455 . К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки
офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка,
и не–сокрушаемость штатов, и индивидуальную отвагу.
454 Слово «волынка» очень прижилось в официальном языке берлинских волнений в июне 1953 года. Если
простые люди где–нибудь в Бельгии добиваются прыжка зарплаты, это называется «справедливый гнев
народа», если простые люди у нас добиваются чёрного хлеба — это «волынка».
455 Полковник Чечев, например, не вынес этой головоломки. После февральских событий в Кенгире он ушёл
в отпуск, затем след его мы теряем — и обнаруживаем уже персональным пенсионером в Караганде. — Не
знаем, как скоро ушёл из Озёрлага его начальник полковник Евстигнеев. «Замечательный руководитель…
скромный товарищ», он стал заместителем начальника Братской ГЭС. (У Евтушенко его прошлое не отражено.)