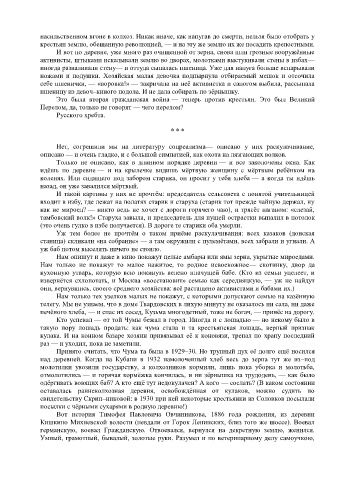Page 781 - Архипелаг ГУЛаг
P. 781
насильственном вгоне в колхоз. Никак иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у
крестьян землю, обещанную революцией, — и на эту же землю их же посадить крепостными.
И вот по деревне, уже много раз очищенной от зерна, снова шли грозные вооружённые
активисты, штыками искалывали землю во дворах, молотками выстукивали стены в избах—
иногда разваливали стену— и оттуда сыпалась пшеница. Уже для напуга больше вспарывали
ножами и подушки. Хозяйская малая девочка подпырнула отбираемый мешок и отсочила
себе пшенички, — «воровка!» — закричала на неё активистка и сапогом выбила, рассыпала
пшеницу из девоч–киного подола. И не дала собирать по зёрнышку.
Это была вторая гражданская война — теперь против крестьян. Это был Великий
Перелом, да, только не говорят — чего перелом?
Русского хребта.
* * *
Нет, согрешили мы на литературу соцреализма— описано у них раскулачивание,
описано — и очень гладко, и с большой симпатией, как охота на лязгающих волков.
Только не описано, как в длинном порядке деревни — и все заколочены окна. Как
идёшь по деревне — и на крылечке видишь мёртвую женщину с мёртвым ребёнком на
коленях. Или сидящего под забором старика, он просит у тебя хлеба — а когда ты идёшь
назад, он уже завалился мёртвый.
И такой картины у них не прочтём: председатель сельсовета с понятой учительницей
входит в избу, где лежат на полатях старик и старуха (старик тот прежде чайную держал, ну
как не мироед? — никто ведь не хочет с дороги горячего чаю), и трясёт наганом: «слезай,
тамбовский волк!» Старуха завыла, и председатель для пущей острастки выпалил в потолок
(это очень гулко в избе получается). В дороге те старики оба умерли.
Уж тем более не прочтём о таком приёме раскулачивания: всех казаков (донская
станица) скликали «на собрание» — а там окружили с пулемётами, всех забрали и угнали. А
уж баб потом выселять ничего не стоило.
Нам опишут и даже в кино покажут целые амбары или ямы зерна, укрытые мироедами.
Нам только не покажут то малое нажитое, то родное исвоекожное— скотинку, двор да
кухонную утварь, которую всю покинуть велено плачущей бабе. (Кто из семьи уцелеет, и
извернётся схлопотать, и Москва «восстановит» семью как середняцкую, — уж не найдут
они, вернувшись, своего среднего хозяйства: всё растащено активистами и бабами их.)
Нам только тех узелков малых не покажут, с которыми допускают семью на казённую
телегу. Мы не узнаем, что в доме Твардовских в лихую минуту не оказалось ни сала, ни даже
печёного хлеба, — и спас их сосед, Кузьма многодетный, тоже не богач, — принёс на дорогу.
Кто успевал — от той Чумы бежал в город. Иногда и с лошадью — но некому было в
такую пору лошадь продать: как чума стала и та крестьянская лошадь, верный признак
кулака. И на конном базаре хозяин привязывал её к коновязи, трепал по храпу последний
раз — и уходил, пока не заметили.
Принято считать, что Чума та была в 1929–30. Но трупный дух её долго ещё носился
над деревней. Когда на Кубани в 1932 намолоченный хлеб весь до зерна тут же из–под
молотилки увозили государству, а колхозников кормили, лишь пока уборка и молотьба,
отмолотились — и горячая кормёжка кончилась, и ни зёрнышка на трудодень, — как было
одёргивать воющих баб? А кто ещё тут недокулачен? А кого — сослать? (В каком состоянии
оставалась раннеколхозная деревня, освобождённая от кулаков, можно судить по
свидетельству Скрип–никовой: в 1930 при ней некоторые крестьянки из Соловков посылали
посылки с чёрными сухарями в родную деревню!)
Вот история Тимофея Павловича Овчинникова, 1886 года рождения, из деревни
Кишкино Михневской волости (невдали от Горок Ленинских, близ того же шоссе). Воевал
германскую, воевал Гражданскую. Отвоевался, вернулся на декретную землю, женился.
Умный, грамотный, бывалый, золотые руки. Разумел и по ветеринарному делу самоучкою,