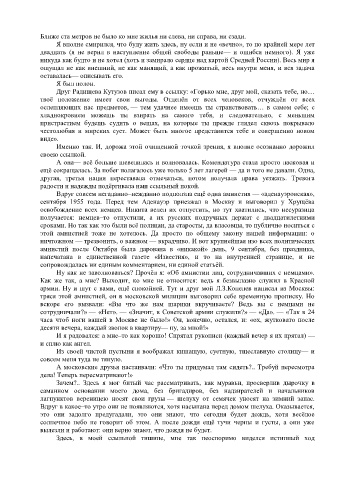Page 825 - Архипелаг ГУЛаг
P. 825
Ближе ста метров не было ко мне жилья ни слева, ни справа, ни сзади.
Я вполне смирился, что буду жить здесь, ну если и не «вечно», то по крайней мере лет
двадцать (я не верил в наступление общей свободы раньше— и ошибся немного). Я уже
никуда как будто и не хотел (хоть и замирало сердце над картой Средней России). Весь мир я
ощущал не как внешний, не как манящий, а как прожитый, весь внутри меня, и вся задача
оставалась— описывать его.
Я был полон.
Друг Радищева Кутузов писал ему в ссылку: «Горько мне, друг мой, сказать тебе, но…
твоё положение имеет свои выгоды. Отделён от всех человеков, отчуждён от всех
ослепляющих нас предметов, — тем удачнее имеешь ты странствовать… в самом себе; с
хладнокровием можешь ты взирать на самого тебя, и следовательно, с меньшим
пристрастием будешь судить о вещах, на которые ты прежде глядел сквозь покрывало
честолюбия и мирских сует. Может быть многое представится тебе в совершенно новом
виде».
Именно так. И, дорожа этой очищенной точкой зрения, я вполне осознанно дорожил
своею ссылкой.
А она— всё больше шевелилась и волновалась. Комендатура стала просто ласковая и
ещё сокращалась. За побег полагалось уже только 5 лет лагерей — да и того не давали. Одна,
другая, третья нация переставала отмечаться, потом получала права уезжать. Тревога
радости и надежды подёргивала наш ссыльный покой.
Вдруг совсем негаданно–нежданно подползла ещё одна амнистия — «аденауэровская»,
сентября 1955 года. Перед тем Аденауэр приезжал в Москву и выговорил у Хрущёва
освобождение всех немцев. Никита велел их отпустить, но тут хватились, что несуразица
получается: немцев–то отпустили, а их русских подручных держат с двадцатилетними
сроками. Но так как это были всё полицаи, да старосты, да власовцы, то публично носиться с
этой амнистией тоже не хотелось. Да просто по общему закону нашей информации: о
ничтожном — трезвонить, о важном — вкрадчиво. И вот крупнейшая изо всех политических
амнистий после Октября была дарована в «никакой» день, 9 сентября, без праздника,
напечатана в единственной газете «Известия», и то на внутренней странице, и не
сопровождалась ни единым комментарием, ни единой статьёй.
Ну как не заволноваться? Прочёл я: «Об амнистии лиц, сотрудничавших с немцами».
Как же так, а мне? Выходит, ко мне не относится: ведь я безвылазно служил в Красной
армии. Ну и шут с вами, ещё спокойней. Тут и друг мой Л.З.Копелев написал из Москвы:
тряся этой амнистией, он в московской милиции выговорил себе временную прописку. Но
вскоре его вызвали: «Вы что же нам шарики вкручиваете? Ведь вы с немцами не
сотрудничали?» — «Нет». — «Значит, в Советской армии служили?» — «Да». — «Так в 24
часа чтоб ноги вашей в Москве не было!» Он, конечно, остался, и: «ох, жутковато после
десяти вечера, каждый звонок в квартиру— ну, за мной!»
И я радовался: а мне–то как хорошо! Спрятал рукописи (каждый вечер я их прятал) —
и сплю как ангел.
Из своей чистой пустыни я воображал кишащую, суетную, тщеславную столицу— и
совсем меня туда не тянуло.
А московские друзья настаивали: «Что ты придумал там сидеть?.. Требуй пересмотра
дела! Теперь пересматривают!»
Зачем?.. Здесь я мог битый час рассматривать, как муравьи, просверлив дырочку в
саманном основании моего дома, без бригадиров, без надзирателей и начальников
лагпунктов вереницею носят свои грузы — шелуху от семячек уносят на зимний запас.
Вдруг в какое–то утро они не появляются, хотя насыпана перед домом шелуха. Оказывается,
это они задолго предугадали, это они знают, что сегодня будет дождь, хотя весёлое
солнечное небо не говорит об этом. А после дождя ещё тучи черны и густы, а они уже
вылезли и работают: они верно знают, что дождя не будет.
Здесь, в моей ссыльной тишине, мне так неоспоримо виделся истинный ход