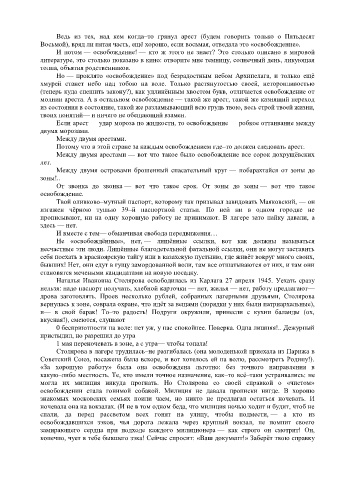Page 827 - Архипелаг ГУЛаг
P. 827
Ведь из тех, над кем когда–то грянул арест (будем говорить только о Пятьдесят
Восьмой), вряд ли пятая часть, ещё хорошо, если восьмая, отведала это «освобождение».
И потом — освобождение! — кто ж этого не знает? Это столько описано в мировой
литературе, это столько показано в кино: отворите мне темницу, солнечный день, ликующая
толпа, объятия родственников.
Но — проклято «освобождение» под безрадостным небом Архипелага, и только ещё
хмурей станет небо над тобою на воле. Только растянутостью своей, неторопливостью
(теперь куда спешить закону?), как удлинённым хвостом букв, отличается освобождение от
молнии ареста. А в остальном освобождение — такой же арест, такой же казнящий переход
из состояния в состояние, такой же разламывающий всю грудь твою, весь строй твоей жизни,
твоих понятий— и ничего не обещающий взамен.
Если арест — удар мороза по жидкости, то освобождение — робкое оттаивание между
двумя морозами.
Между двумя арестами.
Потому что в этой стране за каждым освобождением где–то должен следовать арест.
Между двумя арестами — вот что такое было освобождение все сорок дохрущёвских
лет.
Между двумя островами брошенный спасательный круг — побарахтайся от зоны до
зоны!..
От звонка до звонка — вот что такое срок. От зоны до зоны — вот что такое
освобождение.
Твой оливково–мутный паспорт, которому так призывал завидовать Маяковский, — он
изгажен чёрною тушью 39–й паспортной статьи. По ней ни в одном городке не
прописывают, ни на одну хорошую работу не принимают. В лагере зато пайку давали, а
здесь — нет.
И вместе с тем— обманчивая свобода передвижения…
Не «освобождённые», нет, — лишённые ссылки, вот как должны называться
несчастные эти люди. Лишённые благодетельной фатальной ссылки, они не могут заставить
себя поехать в красноярскую тайгу или в казахскую пустыню, где живёт вокруг много своих,
бывших! Нет, они едут в гущу замордованной воли, там все отшатываются от них, и там они
становятся мечеными кандидатами на новую посадку.
Наталья Ивановна Столярова освободилась из Карлага 27 апреля 1945. Уехать сразу
нельзя: надо паспорт получать, хлебной карточки — нет, жилья — нет, работу предлагают—
дрова заготовлять. Проев несколько рублей, собранных лагерными друзьями, Столярова
вернулась к зоне, соврала охране, что идёт за вещами (порядки у них были патриархальные),
и— в свой барак! То–то радость! Подруги окружили, принесли с кухни баланды (ох,
вкусная!), смеются, слушают
0 бесприютности на воле: нет уж, у нас спокойнее. Поверка. Одна лишняя!.. Дежурный
пристыдил, но разрешил до утра
1 мая переночевать в зоне, а с утра— чтобы топала!
Столярова в лагере трудилась–не разгибалась (она молоденькой приехала из Парижа в
Советский Союз, посажена была вскоре, и вот хотелось ей на волю, рассмотреть Родину!).
«За хорошую работу» была она освобождена льготно: без точного направления в
какую–либо местность. Те, кто имели точное назначение, как–то всё–таки устраивались: не
могла их милиция никуда прогнать. Но Столярова со своей справкой о «чистом»
освобождении стала гонимой собакой. Милиция не давала прописки нигде. В хорошо
знакомых московских семьях поили чаем, но никто не предлагал остаться ночевать. И
ночевала она на вокзалах. (И не в том одном беда, что милиция ночью ходит и будит, чтоб не
спали, да перед рассветом всех гонят на улицу, чтобы подмести, — а кто из
освобождавшихся зэков, чья дорога лежала через крупный вокзал, не помнит своего
замирающего сердца при подходе каждого милиционера — как строго он смотрит! Он,
конечно, чует в тебе бывшего зэка! Сейчас спросит: «Ваш документ!» Заберёт твою справку