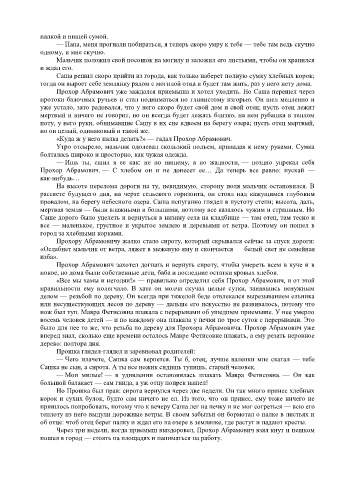Page 12 - Чевенгур
P. 12
палкой и нищей сумой.
— Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе — тебе там ведь скучно
одному, и мне скучно.
Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился
и ждал его.
Саша решил скоро прийти из города, как только наберет полную сумку хлебных корок;
тогда он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома.
Прохор Абрамович уже заждался приемыша и хотел уходить. Но Саша перешел через
протоки балочных ручьев и стал подниматься по глинистому взгорью. Он шел медленно и
уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит
мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко, на нем рубашка в теплом
поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне вдвоем на берегу озера; пусть отец мертвый,
но он целый, одинаковый и такой же.
«Куда ж у него палка делать?» — гадал Прохор Абрамович.
Утро отсырело, мальчик одолевал скользкий подъем, припадая к нему руками. Сумка
болталась широко и просторно, как чужая одежда.
— Ишь ты, сшил я ее как: не по нищему, а по жадности, — поздно упрекал себя
Прохор Абрамович. — С хлебом он и не донесет ее… Да теперь все равно: пускай —
как-нибудь…
На высоте перелома дороги на ту, невидимую, сторону поля мальчик остановился. В
рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким
провалом, на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи; высота, даль,
мертвая земля — были влажными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но
Саше дорого было уцелеть и вернуться в низину села на кладбище — там отец, там тесно и
все — маленькое, грустное и укрытое землею и деревьями от ветра. Поэтому он пошел в
город за хлебными корками.
Прохору Абрамовичу жалко стало сироту, который скрывался сейчас за спуск дороги:
«Ослабнет мальчик от ветра, ляжет в межевую яму и скончается — белый свет не семейная
изба».
Прохор Абрамович захотел догнать и вернуть сироту, чтобы умереть всем в куче и в
покое, но дома были собственные дети, баба и последние остатки яровых хлебов.
«Все мы хамы и негодяи!» — правильно определил себя Прохор Абрамович, и от этой
правильности ему полегчало. В хате он молча скучал целые сутки, занявшись ненужным
делом — резьбой по дереву. Он всегда при тяжелой беде отвлекался вырезыванием ельника
или несуществующих лесов по дереву — дальше его искусство не развивалось, потому что
нож был туп. Мавра Фетисовна плакала с перерывами об ушедшем приемыше. У нее умерло
восемь человек детей — и по каждому она плакала у печки по трое суток с перерывами. Это
было для нее то же, что резьба по дереву для Прохора Абрамовича. Прохор Абрамович уже
вперед знал, сколько еще времени осталось Мавре Фетисовне плакать, а ему резать неровное
дерево: полтора дня.
Прошка глядел-глядел и заревновал родителей:
— Чего плачете, Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал — тебе
Сашка не сын, а сирота. А ты все ножик сидишь тупишь, старый человек.
— Мои милые! — в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна. — Он как
большой балакает — сам гнида, а уж отцу попрек нашел!
Но Прошка был прав: сирота вернулся через две недели. Он так много принес хлебных
корок и сухих булок, будто сам ничего не ел. Из того, что он принес, ему тоже ничего не
пришлось попробовать, потому что к вечеру Саша лег на печку и не мог согреться — всю его
теплоту из него выдули дорожные ветры. В своем забытьи он бормотал о палке в листьях и
об отце: чтоб отец берег палку и ждал его на озере в землянке, где растут и падают кресты.
Через три недели, когда приемыш выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут и пешком
пошел в город — стоять на площадях и наниматься на работу.