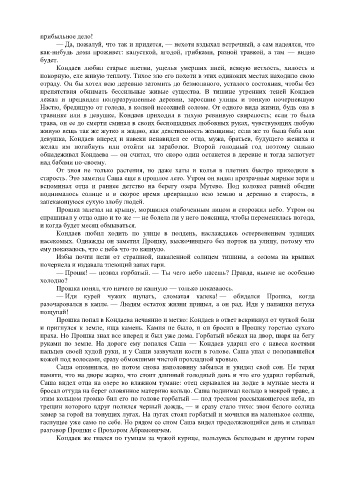Page 15 - Чевенгур
P. 15
прибыльное дело!
— Да, пожалуй, что так и придется, — нехотя вздыхал встречный, а сам надеялся, что
как-нибудь дома проживет: капусткой, ягодой, грибками, разной травкой, а там — видно
будет.
Кондаев любил старые плетни, ущелья умерших пней, всякую ветхость, хилость и
покорную, еле живую теплоту. Тихое зло его похоти в этих одиноких местах находило свою
отраду. Он бы хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без
препятствия обнимать бессильные живые существа. В тишине утренних теней Кондаев
лежал и предвидел полуразрушенные деревни, заросшие улицы и тонкую почерневшую
Настю, бредящую от голода, в колкой иссохшей соломе. От одного вида жизни, будь она в
травинке или в девушке, Кондаев приходил в тихую ревнивую свирепость; если то была
трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую
живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины; если же то была баба или
девушка, Кондаев вперед и навеки ненавидел ее отца, мужа, братьев, будущего жениха и
желал им погибнуть или отойти на заработки. Второй голодный год поэтому сильно
обнадеживал Кондаева — он считал, что скоро один останется в деревне и тогда залютует
над бабами по-своему.
От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили в
старость. Это заметил Саша еще в прошлое лето. Утром он видел прозрачные мирные зори и
вспоминал отца и раннее детство на берегу озера Мутево. Под колокол ранней обедни
поднималось солнце и в скорое время превращало всю землю и деревню в старость, в
запекающуюся сухую злобу людей.
Прошка залезал на крышу, морщился озабоченным лицом и сторожил небо. Утром он
спрашивал у отца одно и то же — не болела ли у него поясница, чтобы переменилась погода,
и когда будет месяц обмываться.
Кондаев любил ходить по улице в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих
насекомых. Однажды он заметил Прошку, выскочившего без порток на улицу, потому что
ему показалось, что с неба что-то капнуло.
Избы почти пели от страшной, накаленной солнцем тишины, а солома на крышах
почернела и издавала тлеющий запах гари.
— Прошк! — позвал горбатый. — Ты чего небо пасешь? Правда, нынче не особенно
холодно?
Прошка понял, что ничего не капнуло — только показалось.
— Иди курей чужих щупать, сломатая калека! — обиделся Прошка, когда
разочаровался в капле. — Людям остаток жизни пришел, а он рад. Иди у папашки петуха
пощупай!
Прошка попал в Кондаева нечаянно и метко: Кондаев в ответ вскрикнул от чуткой боли
и пригнулся к земле, ища камень. Камня не было, и он бросил в Прошку горстью сухого
праха. Но Прошка знал все вперед и был уже дома. Горбатый вбежал на двор, шаря на бегу
руками по земле. На дороге ему попался Саша — Кондаев ударил его с навеса костями
пальцев своей худой руки, и у Саши зазвучали кости в голове. Саша упал с полопавшейся
кожей под волосами, сразу обмокшими чистой прохладной кровью.
Саша опомнился, но потом снова наполовину забылся и увидел свой сон. Не теряя
памяти, что на дворе жарко, что стоит длинный голодный день и что его ударил горбатый,
Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в мутные места и
бросал оттуда на берег оловянное материно кольцо. Саша поднимал кольцо в мокрой траве, а
этим кольцом громко бил его по голове горбатый — под треском рассыхающегося неба, из
трещин которого вдруг полился черный дождь, — и сразу стало тихо: звон белого солнца
замер за горой на тонущих лугах. На лугах стоял горбатый и мочился на маленькое солнце,
гаснущее уже само по себе. Но рядом со сном Саша видел продолжающийся день и слышал
разговор Прошки с Прохором Абрамовичем.
Кондаев же гнался по гумнам за чужой курице, пользуясь безлюдьем и другим горем