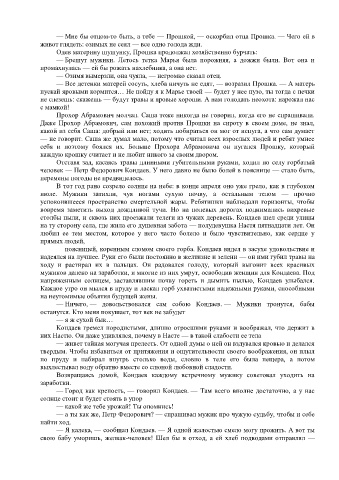Page 14 - Чевенгур
P. 14
— Мне бы отцом-то быть, а тебе — Прошкой, — оскорбил отца Прошка. — Чего ей в
живот глядеть: озимых не сеял — все одно голода жди.
Одев материну шушунку, Прошка продолжал хозяйственно бурчать:
— Брешут мужики. Летось тетка Марья была порожняя, а дожжи были. Вот она и
промахнулась — ей бы рожать нахлебника, а она нет.
— Озимя вымерзли, она чуяла, — негромко сказал отец.
— Все детенки матерей сосуть, хлеба ничуть не едят, — возразил Прошка. — А матерь
пускай яровыми кормится… Не пойду я к Марье твоей — будет у нее пузо, ты тогда с печки
не слезешь: скажешь — будут травы и яровые хороши. А нам голодать неохота: нарожал нас
с мамкой!
Прохор Абрамович молчал. Саша тоже никогда не говорил, когда его не спрашивали.
Даже Прохор Абрамович, сам похожий против Прошки на сироту в своем доме, не знал,
какой из себя Саша: добрый или нет; ходить побираться он мог от испуга, а что сам думает
— не говорит. Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее
себя и поэтому боялся их. Больше Прохора Абрамовича он пугался Прошку, который
каждую крошку считает и не любит никого за своим двором.
Отставя зад, касаясь травы длинными губительными руками, ходил по селу горбатый
человек — Петр Федорович Кондаев. У него давно не было болей в пояснице — стало быть,
перемены погоды не предвиделось.
В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком
июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом — прочно
успокоившееся пространство смертельной жары. Ребятишки наблюдали горизонты, чтобы
вовремя заметить выход дождливой тучи. Но на полевых дорогах поднимались вихревые
столбы пыли, и сквозь них проезжали телеги из чужих деревень. Кондаев шел среди улицы
на ту сторону села, где жила его душевная забота — полудевушка Настя пятнадцати лет. Он
любил ее тем местом, которое у него часто болело и было чувствительно, как сердце у
прямых людей,
— поясницей, коренным сломом своего горба. Кондаев видел в засухе удовольствие и
надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени — он ими губил травы на
ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых
мужиков далеко на заработки, и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева. Под
напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался.
Каждое утро он мылся в пруду и ласкал горб ухватистыми надежными руками, способными
на неутомимые объятия будущей жены.
— Ничего, — довольствовался сам собою Кондаев. — Мужики тронутся, бабы
останутся. Кто меня покушает, тот век не забудет
— я ж сухой бык…
Кондаев гремел породистыми, длинно отросшими руками и воображал, что держит в
них Настю. Он даже удивлялся, почему в Насте — в такой слабости ее тела
— живет тайная могучая прелесть. От одной думы о ней он вздувался кровью и делался
твердым. Чтобы избавиться от притяжения и ощутительности своего воображения, он плыл
по пруду и набирал внутрь столько воды, словно в теле его была пещера, а потом
выхлестывал воду обратно вместе со слюной любовной сладости.
Возвращаясь домой, Кондаев каждому встречному мужику советовал уходить на
заработки.
— Город как крепость, — говорил Кондаев. — Там всего вполне достаточно, а у нас
солнце стоит и будет стоять в упор
— какой же тебе урожай! Ты опомнись!
— а ты как же, Петр Федорович? — спрашивал мужик про чужую судьбу, чтобы и себе
найти ход.
— Я калека, — сообщал Кондаев. — Я одной жалостью смело могу прожить. А вот ты
свою бабу уморишь, желвак-человек! Шел бы в отход, а ей хлеб подводами отправлял —