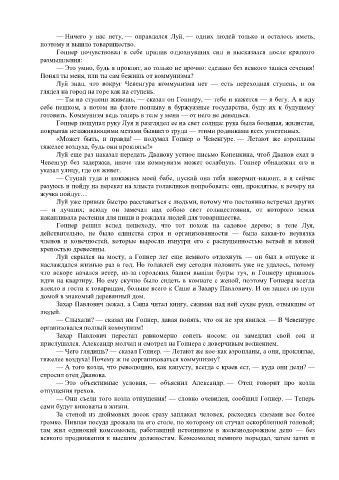Page 121 - Чевенгур
P. 121
— Ничего у нас нету, — оправдался Луй, — одних людей только и осталось иметь,
поэтому и вышло товарищество.
Гопнер почувствовал в себе прилив отдохнувших сил и высказался после краткого
размышления:
— Это умно, будь я проклят, но только не прочно: сделано без всякого запаса сечения!
Понял ты меня, или ты сам бежишь от коммунизма?
Луй знал, что вокруг Чевенгура коммунизма нет — есть переходная ступень, и он
глядел на город на горе как на ступень.
— Ты на ступени живешь, — сказал он Гопнеру, — тебе и кажется — я бегу. А я иду
себе пешком, а потом на флоте поплыву в буржуазные государства, буду их к будущему
готовить. Коммунизм ведь теперь в теле у меня — от него не денешься.
Гопнер пощупал руку Луя и разглядел ее на свет солнца: рука была большая, жилистая,
покрытая незаживающими метами бывшего труда — этими родинками всех угнетенных.
«Может быть, и правда! — подумал Гопнер о Чевенгуре. — Летают же аэропланы
тяжелее воздуха, будь они прокляты!»
Луй еще раз наказал передать Дванову устное письмо Копенкина, чтоб Дванов ехал в
Чевенгур без задержки, иначе там коммунизм может ослабнуть. Гопнер обнадежил его и
указал улицу, где он живет.
— Ступай туда и покажись моей бабе, пускай она тебя накормит-напоит, а я сейчас
разуюсь и пойду на перекат на хлыста голавликов попробовать: они, проклятые, к вечеру на
жучка пойдут…
Луй уже привык быстро расставаться с людьми, потому что постоянно встречал других
— и лучших; всюду он замечал над собою свет солнцестояния, от которого земля
накапливала растения для пищи и рождала людей для товарищества.
Гопнер решил вслед пешеходу, что тот похож на садовое дерево; в теле Луя,
действительно, не было единства строя и организованности — была какая-то неувязка
членов и конечностей, которые выросли изнутри его с распущенностью ветвей и вязкой
крепостью древесины.
Луй скрылся на мосту, а Гопнер лег еще немного отдохнуть — он был в отпуске и
наслаждался жизнью раз в год. Но голавлей ему сегодня половить уже не удалось, потому
что вскоре начался ветер, из-за городских башен вышли бугры туч, и Гопнеру пришлось
идти на квартиру. Но ему скучно было сидеть в комнате с женой, поэтому Гопнера всегда
влекло в гости к товарищам, больше всего к Саше и Захару Павловичу. И он зашел по пути
домой в знакомый деревянный дом.
Захар Павлович лежал, а Саша читал книгу, сжимая над ней сухие руки, отвыкшие от
людей.
— Слыхали? — сказал им Гопнер, давая понять, что он не зря явился. — В Чевенгуре
организовался полный коммунизм!
Захар Павлович перестал равномерно сопеть носом: он замедлил свой сон и
прислушался. Александр молчал и смотрел на Гопнера с доверчивым волнением.
— Чего глядишь? — сказал Гопнер. — Летают же кое-как аэропланы, а они, проклятые,
тяжелее воздуха! Почему ж не сорганизоваться коммунизму?
— А того козла, что революцию, как капусту, всегда с краев ест, — куда они дели? —
спросил отец Дванова.
— Это объективные условия, — объяснил Александр. — Отец говорит про козла
отпущения грехов.
— Они съели того козла отпущения! — словно очевидец, сообщил Гопнер. — Теперь
сами будут виноваты в жизни.
За стеной из дюймовых досок сразу заплакал человек, расходясь слезами все более
громко. Пивная посуда дрожала на его столе, по которому он стучал оскорбленной головой;
там жил одинокий комсомолец, работавший истопником в железнодорожном депо — без
всякого продвижения к высшим должностям. Комсомолец немного порыдал, затем затих и