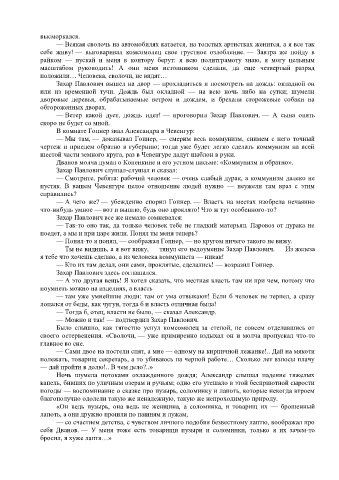Page 122 - Чевенгур
P. 122
высморкался.
— Всякая сволочь на автомобилях катается, на толстых артистках женится, а я все так
себе живу! — выговаривал комсомолец свое грустное озлобление. — Завтра же пойду в
райком — пускай и меня в контору берут: я всю политграмоту знаю, я могу цельным
масштабом руководить! А они меня истопником сделали, да еще четвертый разряд
положили… Человека, сволочи, не видят…
Захар Павлович вышел на двор — прохладиться и посмотреть на дождь: окладной он
или из временной тучи. Дождь был окладной — на всю ночь либо на сутки; шумели
дворовые деревья, обрабатываемые ветром и дождем, и брехали сторожевые собаки на
обгороженных дворах.
— Ветер какой дует, дождь идет! — проговорил Захар Павлович. — А сына опять
скоро не будет со мной.
В комнате Гопнер звал Александра в Чевенгур:
— Мы там, — доказывал Гопнер, — смерим весь коммунизм, снимем с него точный
чертеж и приедем обратно в губернию; тогда уже будет легко сделать коммунизм на всей
шестой части земного круга, раз в Чевенгуре дадут шаблон в руки.
Дванов молча думал о Копенкине и его устном письме: «Коммунизм и обратно».
Захар Павлович слушал-слушал и сказал:
— Смотрите, ребята: рабочий человек — очень слабый дурак, а коммунизм далеко не
пустяк. В вашем Чевенгуре целое отношение людей нужно — неужели там враз с этим
справились?
— А чего же? — убежденно спорил Гопнер. — Власть на местах изобрела нечаянно
что-нибудь умное — вот и вышло, будь оно проклято! Что ж тут особенного-то?
Захар Павлович все же немало сомневался:
— Так-то оно так, да только человек тебе не гладкий матерьял. Паровоз от дурака не
поедет, а мы и при царе жили. Понял ты меня теперь?
— Понял-то я понял, — соображал Гопнер, — но кругом ничего такого не вижу.
— Ты не видишь, а я вот вижу, — тянул его недоумение Захар Павлович. — Из железа
я тебе что хочешь сделаю, а из человека коммуниста — никак!
— Кто их там делал, они сами, проклятые, сделались! — возразил Гопнер.
Захар Павлович здесь соглашался.
— А это другая вещь! Я хотел сказать, что местная власть там ни при чем, потому что
поумнеть можно на изделиях, а власть
— там уже умнейшие люди: там от ума отвыкают! Если б человек не терпел, а сразу
лопался от беды, как чугун, тогда б и власть отличная была!
— Тогда б, отец, власти не было, — сказал Александр.
— Можно и так! — подтвердил Захар Павлович.
Было слышно, как тягостно уснул комсомолец за стеной, не совсем отделавшись от
своего остервенения. «Сволочи, — уже примиренно вздыхал он и молча пропускал что-то
главное во сне.
— Сами двое на постели спят, а мне — одному на кирпичной лежанке!.. Дай на мякоти
полежать, товарищ секретарь, а то убиваюсь на черной работе… Сколько лет взносы плачу
— дай пройти в долю!.. В чем дело?..»
Ночь шумела потоками охлажденного дождя; Александр слышал падение тяжелых
капель, бивших по уличным озерам и ручьям; одно его утешало в этой бесприютной сырости
погоды — воспоминание о сказке про пузырь, соломинку и лапоть, которые некогда втроем
благополучно одолели такую же ненадежную, такую же непроходимую природу.
«Он ведь пузырь, она ведь не женщина, а соломинка, и товарищ их — брошенный
лапоть, а они дружно прошли по пашням и лужам,
— со счастием детства, с чувством личного подобия безвестному лаптю, воображал про
себя Дванов. — У меня тоже есть товарищи пузыри и соломинки, только я их зачем-то
бросил, я хуже лаптя…»