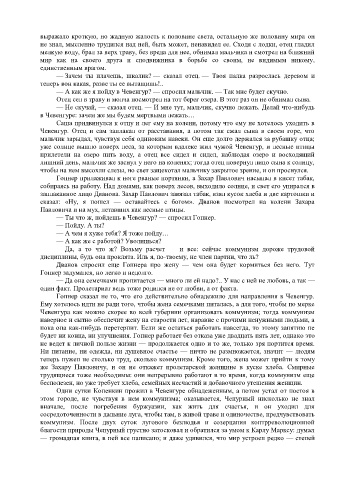Page 124 - Чевенгур
P. 124
выражало кроткую, но жадную жалость к половине света, остальную же половину мира он
не знал, мысленно трудился над ней, быть может, ненавидел ее. Сходя с лодки, отец гладил
мелкую воду, брал за верх траву, без вреда для нее, обнимал мальчика и смотрел на ближний
мир как на своего друга и сподвижника в борьбе со своим, не видимым никому,
единственным врагом.
— Зачем ты плачешь, шкалик? — сказал отец. — Твоя палка разрослась деревом и
теперь вон какая, разве ты ее вытащишь!..
— А как же я пойду в Чевенгур? — спросил мальчик. — Так мне будет скучно.
Отец сел в траву и молча посмотрел на тот берег озера. В этот раз он не обнимал сына.
— Не скучай, — сказал отец. — И мне тут, мальчик, скучно лежать. Делай что-нибудь
в Чевенгуре: зачем же мы будем мертвыми лежать…
Саша придвинулся к отцу и лег ему на колени, потому что ему не хотелось уходить в
Чевенгур. Отец и сам заплакал от расставания, а потом так сжал сына в своем горе, что
мальчик зарыдал, чувствуя себя одиноким навеки. Он еще долго держался за рубашку отца;
уже солнце вышло поверх леса, за которым вдалеке жил чужой Чевенгур, и лесные птицы
прилетели на озеро пить воду, а отец все сидел и сидел, наблюдая озеро и восходящий
лишний день, мальчик же заснул у него на коленях; тогда отец повернул лицо сына к солнцу,
чтобы на нем высохли слезы, но свет защекотал мальчику закрытое зрение, и он проснулся.
Гопнер прилаживал к ноге рваные портянки, а Захар Павлович насыпал в кисет табак,
собираясь на работу. Над домами, как поверх лесов, выходило солнце, и свет его упирался в
заплаканное лицо Дванова. Захар Павлович завязал табак, взял кусок хлеба и две картошки и
сказал: «Ну, я пошел — оставайтесь с богом». Дванов посмотрел на колени Захара
Павловича и на мух, летавших как лесные птицы.
— Ты что ж, пойдешь в Чевенгур? — спросил Гопнер.
— Пойду. А ты?
— А чем я хуже тебя? Я тоже пойду…
— А как же с работой? Уволишься?
— Да, а то что ж? Возьму расчет — и все: сейчас коммунизм дороже трудовой
дисциплины, будь она проклята. Иль я, по-твоему, не член партии, что ль?
Дванов спросил еще Гопнера про жену — чем она будет кормиться без него. Тут
Гопнер задумался, но легко и недолго.
— Да она семечками пропитается — много ли ей надо?.. У нас с ней не любовь, а так —
один факт. Пролетариат ведь тоже родился не от любви, а от факта.
Гопнер сказал не то, что его действительно обнадежило для направления в Чевенгур.
Ему хотелось идти не ради того, чтобы жена семечками питалась, а для того, чтобы по мерке
Чевенгура как можно скорее во всей губернии организовать коммунизм; тогда коммунизм
наверное и сытно обеспечит жену на старости лет, наравне с прочими ненужными людьми, а
пока она как-нибудь перетерпит. Если же остаться работать навсегда, то этому занятию не
будет ни конца, ни улучшения. Гопнер работает без отказа уже двадцать пять лет, однако это
не ведет к личной пользе жизни — продолжается одно и то же, только зря портится время.
Ни питание, ни одежда, ни душевное счастье — ничто не размножается, значит — людям
теперь нужен не столько труд, сколько коммунизм. Кроме того, жена может прийти к тому
же Захару Павловичу, и он не откажет пролетарской женщине в куске хлеба. Смирные
трудящиеся тоже необходимы: они непрерывно работают в то время, когда коммунизм еще
бесполезен, но уже требует хлеба, семейных несчастий и добавочного утешения женщин.
Одни сутки Копенкин прожил в Чевенгуре обнадеженным, а потом устал от постоя в
этом городе, не чувствуя в нем коммунизма; оказывается, Чепурный нисколько не знал
вначале, после погребения буржуазии, как жить для счастья, и он уходил для
сосредоточенности в дальние луга, чтобы там, в живой траве и одиночестве, предчувствовать
коммунизм. После двух суток лугового безлюдья и созерцания контрреволюционной
благости природы Чепурный грустно затосковал и обратился за умом к Карлу Марксу: думал
— громадная книга, в ней все написано; и даже удивился, что мир устроен редко — степей