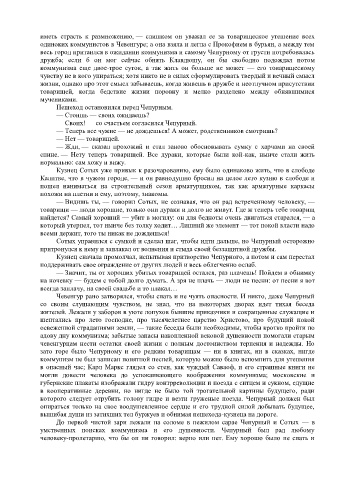Page 127 - Чевенгур
P. 127
иметь страсть к размножению, — слишком он уважал ее за товарищеское утешение всех
одиноких коммунистов в Чевенгуре; а она взяла и легла с Прокофием в бурьян, а между тем
весь город притаился в ожидании коммунизма и самому Чепурному от грусти потребовалась
дружба; если б он мог сейчас обнять Клавдюшу, он бы свободно подождал потом
коммунизма еще двое-трое суток, а так жить он больше не может — его товарищескому
чувству не в кого упираться; хотя никто не в силах сформулировать твердый и вечный смысл
жизни, однако про этот смысл забываешь, когда живешь в дружбе и неотлучном присутствии
товарищей, когда бедствие жизни поровну и мелко разделено между обнявшимися
мучениками.
Пешеход остановился перед Чепурным.
— Стоишь — своих ожидаешь?
— Своих! — со счастьем согласился Чепурный.
— Теперь все чужие — не дождешься! А может, родственников смотришь?
— Нет — товарищей.
— Жди, — сказал прохожий и стал заново обосновывать сумку с харчами на своей
спине. — Нету теперь товарищей. Все дураки, которые были кой-как, нынче стали жить
нормально: сам хожу и вижу.
Кузнец Сотых уже привык к разочарованию, ему было одинаково жить, что в слободе
Калитве, что в чужом городе, — и он равнодушно бросил на целое лето кузню в слободе и
пошел наниматься на строительный сезон арматурщиком, так как арматурные каркасы
похожи на плетни и ему, поэтому, знакомы.
— Видишь ты, — говорил Сотых, не сознавая, что он рад встреченному человеку, —
товарищи — люди хорошие, только они дураки и долго не живут. Где ж теперь тебе товарищ
найдется? Самый хороший — убит в могилу: он для бедноты очень двигаться старался, — а
который утерпел, тот нынче без толку ходит… Лишний же элемент — тот покой власти надо
всеми держит, того ты никак не дождешься!
Сотых управился с сумкой и сделал шаг, чтобы идти дальше, но Чепурный осторожно
притронулся к нему и заплакал от волнения и стыда своей беззащитной дружбы.
Кузнец сначала промолчал, испытывая притворство Чепурного, а потом и сам перестал
поддерживать свое ограждение от других людей и весь облегченно ослаб.
— Значит, ты от хороших убитых товарищей остался, раз плачешь! Пойдем в обнимку
на ночевку — будем с тобой долго думать. А зря не плачь — люди не песни: от песни я вот
всегда заплачу, на своей свадьбе и то плакал…
Чевенгур рано затворялся, чтобы спать и не чуять опасности. И никто, даже Чепурный
со своим слушающим чувством, не знал, что на некоторых дворах идет тихая беседа
жителей. Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и сокращенные служащие и
шептались про лето господне, про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой
освеженной страданиями земли, — такие беседы были необходимы, чтобы кротко пройти по
адову дну коммунизма; забытые запасы накопленной вековой душевности помогали старым
чевенгурцам нести остатки своей жизни с полным достоинством терпения и надежды. Но
зато горе было Чепурному и его редким товарищам — ни в книгах, ни в сказках, нигде
коммунизм не был записан понятной песней, которую можно было вспомнить для утешения
в опасный час; Карл Маркс глядел со стен, как чуждый Саваоф, и его страшные книги не
могли довести человека до успокаивающего воображения коммунизма; московские и
губернские плакаты изображали гидру контрреволюции и поезда с ситцем и сукном, едущие
в кооперативные деревни, но нигде не было той трогательной картины будущего, ради
которого следует отрубить голову гидре и везти груженые поезда. Чепурный должен был
опираться только на свое воодушевленное сердце и его трудной силой добывать будущее,
вышибая души из затихших тел буржуев и обнимая пешехода-кузнеца на дороге.
До первой чистой зари лежали на соломе в нежилом сарае Чепурный и Сотых — в
умственных поисках коммунизма и его душевности. Чепурный был рад любому
человеку-пролетарию, что бы он ни говорил: верно или нет. Ему хорошо было не спать и