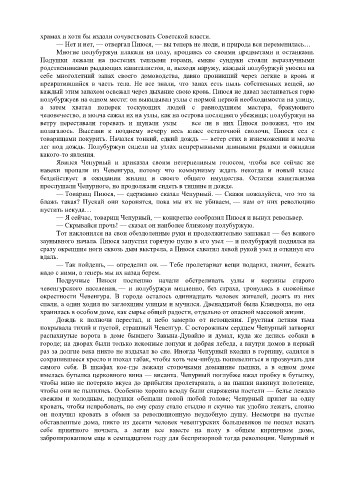Page 130 - Чевенгур
P. 130
храмах и хотя бы издали сочувствовать Советской власти.
— Нет и нет, — отвергал Пиюся, — вы теперь не люди, и природа вся переменилась…
Многие полубуржуи плакали на полу, прощаясь со своими предметами и останками.
Подушки лежали на постелях теплыми горами, емкие сундуки стояли неразлучными
родственниками рыдающих капиталистов, и, выходя наружу, каждый полубуржуй уносил на
себе многолетний запах своего домоводства, давно проникший через легкие в кровь и
превратившийся в часть тела. Не все знали, что запах есть пыль собственных вещей, но
каждый этим запахом освежал через дыхание свою кровь. Пиюся не давал застаиваться горю
полубуржуев на одном месте: он выкидывал узлы с нормой первой необходимости на улицу,
а затем хватал поперек тоскующих людей с равнодушием мастера, бракующего
человечество, и молча сажал их на узлы, как на острова последнего убежища; полубуржуи на
ветру переставали горевать и щупали узлы — все ли в них Пиюся положил, что им
полагалось. Выселив к позднему вечеру весь класс остаточной сволочи, Пиюся сел с
товарищами покурить. Начался тонкий, едкий дождь — ветер стих в изнеможении и молча
лег под дождь. Полубуржуи сидели на узлах непрерывными длинными рядами и ожидали
какого-то явления.
Явился Чепурный и приказал своим нетерпеливым голосом, чтобы все сейчас же
навеки пропали из Чевенгура, потому что коммунизму ждать некогда и новый класс
бездействует в ожидании жилищ и своего общего имущества. Остатки капитализма
прослушали Чепурного, но продолжали сидеть в тишине и дожде.
— Товарищ Пиюся, — сдержанно сказал Чепурный. — Скажи пожалуйста, что это за
блажь такая? Пускай они хоронятся, пока мы их не убиваем, — нам от них революцию
пустить некуда…
— Я сейчас, товарищ Чепурный, — конкретно сообразил Пиюся и вынул револьвер.
— Скрывайся прочь! — сказал он наиболее близкому полубуржую.
Тот наклонился на свои обездоленные руки и продолжительно заплакал — без всякого
заунывного начала. Пиюся запустил горячую пулю в его узел — и полубуржуй поднялся на
сразу окрепшие ноги сквозь дым выстрела, а Пиюся схватил левой рукой узел и откинул его
вдаль.
— Так пойдешь, — определил он. — Тебе пролетариат вещи подарил, значит, бежать
надо с ними, а теперь мы их назад берем.
Подручные Пиюси поспешно начали обстреливать узлы и корзины старого
чевенгурского населения, — и полубуржуи медленно, без страха, тронулись в спокойные
окрестности Чевенгура. В городе осталось одиннадцать человек жителей, десять из них
спали, а один ходил по заглохшим улицам и мучился. Двенадцатой была Клавдюша, но она
хранилась в особом доме, как сырье общей радости, отдельно от опасной массовой жизни.
Дождь к полночи перестал, и небо замерло от истощения. Грустная летняя тьма
покрывала тихий и пустой, страшный Чевенгур. С осторожным сердцем Чепурный затворил
распахнутые ворота в доме бывшего Завына-Дувайло и думал, куда же делись собаки в
городе; на дворах были только исконные лопухи и добрая лебеда, а внутри домов в первый
раз за долгие века никто не вздыхал во сне. Иногда Чепурный входил в горницу, садился в
сохранившееся кресло и нюхал табак, чтобы хоть чем-нибудь пошевелиться и прозвучать для
самого себя. В шкафах кое-где лежали стопочками домашние пышки, а в одном доме
имелась бутылка церковного вина — висанта. Чепурный поглубже вжал пробку в бутылку,
чтобы вино не потеряло вкуса до прибытия пролетариата, а на пышки накинул полотенце,
чтобы они не пылились. Особенно хорошо всюду были снаряжены постели — белье лежало
свежим и холодным, подушки обещали покой любой голове; Чепурный прилег на одну
кровать, чтобы испробовать, но ему сразу стало стыдно и скучно так удобно лежать, словно
он получил кровать в обмен за революционную неудобную душу. Несмотря на пустые
обставленные дома, никто из десяти человек чевенгурских большевиков не пошел искать
себе приятного ночлега, а легли все вместе на полу в общем кирпичном доме,
забронированном еще в семнадцатом году для беспризорной тогда революции. Чепурный и