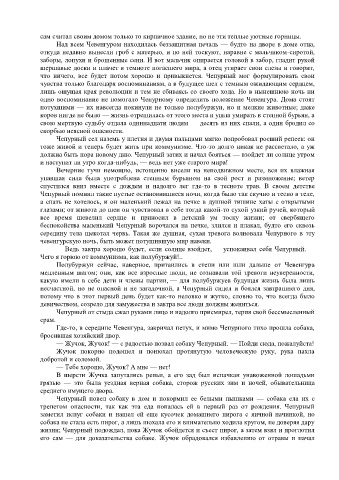Page 131 - Чевенгур
P. 131
сам считал своим домом только то кирпичное здание, но не эти теплые уютные горницы.
Над всем Чевенгуром находилась беззащитная печаль — будто на дворе в доме отца,
откуда недавно вынесли гроб с матерью, и по ней тоскуют, наравне с мальчиком-сиротой,
заборы, лопухи и брошенные сени. И вот мальчик опирается головой в забор, гладит рукой
шершавые доски и плачет в темноте погасшего мира, а отец утирает свои слезы и говорит,
что ничего, все будет потом хорошо и привыкнется. Чепурный мог формулировать свои
чувства только благодаря воспоминаниям, а в будущее шел с темным ожидающим сердцем,
лишь ощущая края революции и тем не сбиваясь со своего хода. Но в нынешнюю ночь ни
одно воспоминание не помогало Чепурному определить положение Чевенгура. Дома стоят
потухшими — их навсегда покинули не только полубуржуи, но и мелкие животные; даже
коров нигде не было — жизнь отрешилась от этого места и ушла умирать в степной бурьян, а
свою мертвую судьбу отдала одиннадцати людям — десять из них спали, а один бродил со
скорбью неясной опасности.
Чепурный сел наземь у плетня и двумя пальцами мягко попробовал росший репеек: он
тоже живой и теперь будет жить при коммунизме. Что-то долго никак не рассветало, а уж
должна быть пора новому дню. Чепурный затих и начал бояться — взойдет ли солнце утром
и наступит ли утро когда-нибудь, — ведь нет уже старого мира!
Вечерние тучи немощно, истощенно висели на неподвижном месте, вся их влажная
упавшая сила была употреблена степным бурьяном на свой рост и размножение; ветер
спустился вниз вместе с дождем и надолго лег где-то в тесноте трав. В своем детстве
Чепурный помнил такие пустые остановившиеся ночи, когда было так скучно и тесно в теле,
а спать не хотелось, и он маленький лежал на печке в душной тишине хаты с открытыми
глазами; от живота до шеи он чувствовал в себе тогда какой-то сухой узкий ручей, который
все время шевелил сердце и приносил в детский ум тоску жизни; от свербящего
беспокойства маленький Чепурный ворочался на печке, злился и плакал, будто его сквозь
середину тела щекотал червь. Такая же душная, сухая тревога волновала Чепурного в эту
чевенгурскую ночь, быть может потушившую мир навеки.
— Ведь завтра хорошо будет, если солнце взойдет, — успокаивал себя Чепурный. —
Чего я горюю от коммунизма, как полубуржуй!..
Полубуржуи сейчас, наверное, притаились в степи или шли дальше от Чевенгура
медленным шагом; они, как все взрослые люди, не сознавали той тревоги неуверенности,
какую имели в себе дети и члены партии, — для полубуржуев будущая жизнь была лишь
несчастной, но не опасной и не загадочной, а Чепурный сидел и боялся завтрашнего дня,
потому что в этот первый день будет как-то неловко и жутко, словно то, что всегда было
девичеством, созрело для замужества и завтра все люди должны жениться.
Чепурный от стыда сжал руками лицо и надолго присмирел, терпя свой бессмысленный
срам.
Где-то, в середине Чевенгура, закричал петух, и мимо Чепурного тихо прошла собака,
бросившая хозяйский двор.
— Жучок, Жучок! — с радостью позвал собаку Чепурный. — Пойди сюда, пожалуйста!
Жучок покорно подошел и понюхал протянутую человеческую руку, рука пахла
добротой и соломой.
— Тебе хорошо, Жучок? А мне — нет!
В шерсти Жучка запутались репьи, а его зад был испачкан унавоженной лошадьми
грязью — это была уездная верная собака, сторож русских зим и ночей, обывательница
среднего имущего двора.
Чепурный повел собаку в дом и покормил ее белыми пышками — собака ела их с
трепетом опасности, так как эта еда попалась ей в первый раз от рождения. Чепурный
заметил испуг собаки и нашел ей еще кусочек домашнего пирога с яичной начинкой, но
собака не стала есть пирог, а лишь нюхала его и внимательно ходила кругом, не доверяя дару
жизни; Чепурный подождал, пока Жучок обойдется и съест пирог, а затем взял и проглотил
его сам — для доказательства собаке. Жучок обрадовался избавлению от отравы и начал