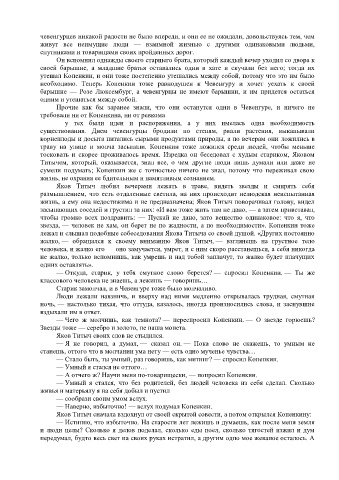Page 155 - Чевенгур
P. 155
чевенгурцев никакой радости не было впереди, и они ее не ожидали, довольствуясь тем, чем
живут все неимущие люди — взаимной жизнью с другими одинаковыми людьми,
спутниками и товарищами своих пройденных дорог.
Он вспомнил однажды своего старшего брата, который каждый вечер уходил со двора к
своей барышне, а младшие братья оставались одни в хате и скучали без него; тогда их
утешал Копенкин, и они тоже постепенно утешались между собой, потому что это им было
необходимо. Теперь Копенкин тоже равнодушен к Чевенгуру и хочет уехать к своей
барышне — Розе Люксембург, а чевенгурцы не имеют барышни, и им придется остаться
одним и утешаться между собой.
Прочие как бы заранее знали, что они останутся одни в Чевенгуре, и ничего не
требовали ни от Копенкина, ни от ревкома
— у тех были идеи и распоряжения, а у них имелась одна необходимость
существования. Днем чевенгурцы бродили по степям, рвали растения, выкапывали
корнеплоды и досыта питались сырыми продуктами природы, а по вечерам они ложились в
траву на улице и молча засыпали. Копенкин тоже ложился среди людей, чтобы меньше
тосковать и скорее проживалось время. Изредка он беседовал с худым стариком, Яковом
Титычем, который, оказывается, знал все, о чем другие люди лишь думали или даже не
сумели подумать; Копенкин же с точностью ничего не знал, потому что переживал свою
жизнь, не охраняя ее бдительным и памятливым сознанием.
Яков Титыч любил вечерами лежать в траве, видеть звезды и смирять себя
размышлением, что есть отдаленные светила, на них происходит нелюдская неиспытанная
жизнь, а ему она недостижима и не предназначена; Яков Титыч поворачивал голову, видел
засыпающих соседей и грустил за них: «И вам тоже жить там не дано, — а затем привставал,
чтобы громко всех поздравить: — Пускай не дано, зато вещество одинаковое: что я, что
звезда, — человек не хам, он берет не по жадности, а по необходимости». Копенкин тоже
лежал и слышал подобные собеседования Якова Титыча со своей душой. «Других постоянно
жалко, — обращался к своему вниманию Яков Титыч, — взглянешь на грустное тело
человека, и жалко его — оно замучается, умрет, и с ним скоро расстанешься, а себя никогда
не жалко, только вспомнишь, как умрешь и над тобой заплачут, то жалко будет плачущих
одних оставлять».
— Откуда, старик, у тебя смутное слово берется? — спросил Копенкин. — Ты же
классового человека не знаешь, а лежишь — говоришь…
Старик замолчал, и в Чевенгуре тоже было молчаливо.
Люди лежали навзничь, и вверху над ними медленно открывалась трудная, смутная
ночь, — настолько тихая, что оттуда, казалось, иногда произносились слова, и заснувшие
вздыхали им в ответ.
— Чего ж молчишь, как темнота? — переспросил Копенкин. — О звезде горюешь?
Звезды тоже — серебро и золото, не наша монета.
Яков Титыч своих слов не стыдился.
— Я не говорил, а думал, — сказал он. — Пока слово не скажешь, то умным не
станешь, оттого что в молчании ума нету — есть одно мученье чувства…
— Стало быть, ты умный, раз говоришь, как митинг? — спросил Копенкин.
— Умный я стался не оттого…
— А отчего ж? Научи меня по-товарищески, — попросил Копенкин.
— Умный я стался, что без родителей, без людей человека из себя сделал. Сколько
живья и матерьялу я на себя добыл и пустил
— сообрази своим умом вслух.
— Наверно, избыточно! — вслух подумал Копенкин.
Яков Титыч сначала вздохнул от своей скрытой совести, а потом открылся Копенкину:
— Истинно, что избыточно. На старости лет лежишь и думаешь, как после меня земля
и люди целы? Сколько я делов поделал, сколько еды поел, сколько тягостей изжил и дум
передумал, будто весь свет на своих руках истратил, а другим одно мое жеваное осталось. А