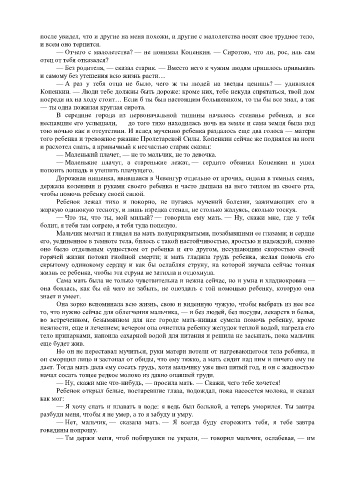Page 156 - Чевенгур
P. 156
после увидел, что и другие на меня похожи, и другие с малолетства носят свое трудное тело,
и всем оно терпится.
— Отчего с малолетства? — не понимал Копенкин. — Сиротою, что ли, рос, иль сам
отец от тебя отказался?
— Без родителя, — сказал старик. — Вместо него к чужим людям пришлось привыкать
и самому без утешения всю жизнь расти…
— А раз у тебя отца не было, чего ж ты людей на звезды ценишь? — удивлялся
Копенкин. — Люди тебе должны быть дороже: кроме них, тебе некуда спрятаться, твой дом
посреди их на ходу стоит… Если б ты был настоящим большевиком, то ты бы все знал, а так
— ты одна пожилая круглая сирота.
В середине города из первоначальной тишины началось стенанье ребенка, и все
неспавшие его услышали, — до того тихо находилась ночь на земле и сама земля была под
тою ночью как в отсутствии. И вслед мучению ребенка раздалось еще два голоса — матери
того ребенка и тревожное ржание Пролетарской Силы. Копенкин сейчас же поднялся на ноги
и расхотел спать, а привычный к несчастью старик сказал:
— Маленький плачет, — не то мальчик, не то девочка.
— Маленькие плачут, а старенькие лежат, — сердито обвинил Копенкин и ушел
попоить лошадь и утешить плачущего.
Дорожная нищенка, явившаяся в Чевенгур отдельно от прочих, сидела в темных сенях,
держала коленями и руками своего ребенка и часто дышала на него теплом из своего рта,
чтобы помочь ребенку своей силой.
Ребенок лежал тихо и покорно, не пугаясь мучений болезни, зажимающих его в
жаркую одинокую тесноту, и лишь изредка стенал, не столько жалуясь, сколько тоскуя.
— Что ты, что ты, мой милый? — говорила ему мать. — Ну, скажи мне, где у тебя
болит, я тебя там согрею, я тебя туда поцелую.
Мальчик молчал и глядел на мать полуприкрытыми, позабывшими ее глазами; и сердце
его, уединенное в темноте тела, билось с такой настойчивостью, яростью и надеждой, словно
оно было отдельным существом от ребенка и его другом, иссушающим скоростью своей
горячей жизни потоки гнойной смерти; и мать гладила грудь ребенка, желая помочь его
скрытому одинокому сердцу и как бы ослабляя струну, на которой звучала сейчас тонкая
жизнь ее ребенка, чтобы эта струна не затихла и отдохнула.
Сама мать была не только чувствительна и нежна сейчас, но и умна и хладнокровна —
она боялась, как бы ей чего не забыть, не опоздать с той помощью ребенку, которую она
знает и умеет.
Она зорко вспоминала всю жизнь, свою и виденную чужую, чтобы выбрать из нее все
то, что нужно сейчас для облегчения мальчика, — и без людей, без посуды, лекарств и белья,
во встреченном, безымянном для нее городе мать-нищая сумела помочь ребенку, кроме
нежности, еще и лечением; вечером она очистила ребенку желудок теплой водой, нагрела его
тело припарками, напоила сахарной водой для питания и решила не засыпать, пока мальчик
еще будет жив.
Но он не переставал мучиться, руки матери потели от нагревающегося тела ребенка, и
он сморщил лицо и застонал от обиды, что ему тяжко, а мать сидит над ним и ничего ему не
дает. Тогда мать дала ему сосать грудь, хотя мальчику уже шел пятый год, и он с жадностью
начал сосать тощее редкое молоко из давно опавшей груди.
— Ну, скажи мне что-нибудь, — просила мать. — Скажи, чего тебе хочется!
Ребенок открыл белые, постаревшие глаза, подождал, пока насосется молока, и сказал
как мог:
— Я хочу спать и плавать в воде: я ведь был больной, а теперь уморился. Ты завтра
разбуди меня, чтобы я не умер, а то я забуду и умру.
— Нет, мальчик, — сказала мать. — Я всегда буду сторожить тебя, я тебе завтра
говядины попрошу.
— Ты держи меня, чтоб побирушки не украли, — говорил мальчик, ослабевая, — им