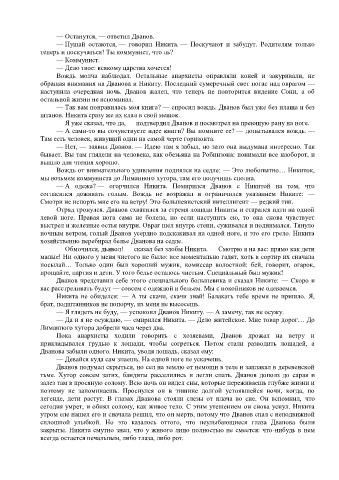Page 47 - Чевенгур
P. 47
— Останутся, — ответил Дванов.
— Пущай остаются, — говорил Никита. — Поскучают и забудут. Родителям только
теперь и поскучаться! Ты коммунист, что ль?
— Коммунист.
— Дело твое: всякому царства хочется!
Вождь молча наблюдал. Остальные анархисты оправляли коней и закуривали, не
обращая внимания на Дванова и Никиту. Последний сумеречный свет погас над оврагом —
наступила очередная ночь. Дванов жалел, что теперь не повторится видение Сони, а об
остальной жизни не вспоминал.
— Так вам понравилась моя книга? — спросил вождь. Дванов был уже без плаща и без
штанов. Никита сразу же их клал в свой мешок.
— Я уже сказал, что да, — подтвердил Дванов и посмотрел на преющую рану на ноге.
— А сами-то вы сочувствуете идее книги? Вы помните ее? — допытывался вождь. —
Там есть человек, живущий один на самой черте горизонта.
— Нет, — заявил Дванов. — Идею там я забыл, но зато она выдумана интересно. Так
бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот, и
вышло для чтения хорошо.
Вождь от внимательного удивления поднялся на седле: — Это любопытно… Никиток,
мы возьмем коммуниста до Лиманного хутора, там его получишь сполна.
— А одежа? — огорчился Никита. Помирился Дванов с Никитой на том, что
согласился доживать голым. Вождь не возражал и ограничился указанием Никите: —
Смотри не испорть мне его на ветру! Это большевистский интеллигент — редкий тип.
Отряд тронулся. Дванов схватился за стремя лошади Никиты и старался идти на одной
левой ноге. Правая нога сама не болела, но если наступить ею, то она снова чувствует
выстрел и железные остья внутри. Овраг шел внутрь степи, суживался и поднимался. Тянуло
ночным ветром, голый Дванов усердно подскакивал на одной ноге, и это его грело. Никита
хозяйственно перебирал белье Дванова на седле.
— Обмочился, дьявол! — сказал без злобы Никита. — Смотрю я на вас: прямо как дети
малые! Ни одного у меня чистого не было: все моментально гадят, хоть в сортир их сначала
посылай… Только один был хороший мужик, комиссар волостной: бей, говорит, огарок,
прощайте, партия и дети. У того белье осталось чистым. Специальный был мужик!
Дванов представил себе этого специального большевика и сказал Никите: — Скоро и
вас расстреливать будут — совсем с одеждой и бельем. Мы с покойников не одеваемся.
Никита не обиделся: — А ты скачи, скачи знай! Балакать тебе время не пришло. Я,
брат, подштанников не попорчу, из меня не высосешь.
— Я глядеть не буду, — успокоил Дванов Никиту. — А замечу, так не осужу.
— Да и я не осуждаю, — смирился Никита. — Дело житейское. Мне товар дорог… До
Лиманного хутора добрели часа через два.
Пока анархисты ходили говорить с хозяевами, Дванов дрожал на ветру и
прикладывался грудью к лошади, чтобы согреться. Потом стали разводить лошадей, а
Дванова забыли одного. Никита, уводя лошадь, сказал ему:
— Девайся куда сам знаешь. На одной ноге не ускачешь.
Дванов подумал скрыться, но сел на землю от немощи в теле и заплакал в деревенской
тьме. Хутор совсем затих, бандиты расселились и легли спать. Дванов дополз до сарая и
залез там в просяную солому. Всю ночь он видел сны, которые переживаешь глубже жизни и
поэтому не запоминаешь. Проснулся он в тишине долгой устоявшейся ночи, когда, по
легенде, дети растут. В глазах Дванова стояли слезы от плача во сне. Он вспомнил, что
сегодня умрет, и обнял солому, как живое тело. С этим утешением он снова уснул. Никита
утром еле нашел его и сначала решил, что он мертв, потому что Дванов спал с неподвижной
сплошной улыбкой. Но это казалось оттого, что неулыбающиеся глаза Дванова были
закрыты. Никита смутно знал, что у живого лицо полностью не смеется: что-нибудь в нем
всегда остается печальным, либо глаза, либо рот.