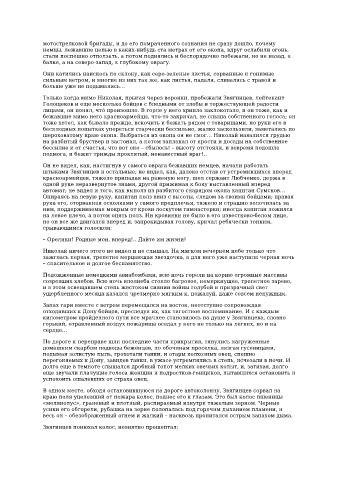Page 48 - Донские рассказы
P. 48
мотострелковой бригады, и до его помраченного сознания не сразу дошло, почему
немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь,
стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад, к
балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу.
Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые
сильным ветром, и многие из них так же, как листья, падали, сливались с травой и
больше уже не подымались…
Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант
Голощеков и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости
́
лицами, он понял, что произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и
бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса; он
тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в
бесплодных попытках упереться старчески бессильно, жалко заскользили, заметались по
шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог… Николай навалился грудью
на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное
бессилие и от счастья, что вот оно – сбылось! – высоту отстояли, и вовремя подошла
подмога, и бежит трижды проклятый, ненавистный враг!..
Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать
штыками Звягинцев и остальные; не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед
красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в
одной руке неразвернутое знамя, другой прижимая к боку выставленный вперед
автомат; не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков…
Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами; правая
рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за
ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки; иногда капитан ложился
на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице,
но он все же двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким,
срывающимся голоском:
– Орелики! Родные мои, вперед!.. Дайте им жизни!
Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что
зажглась первая, трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь
– спасительное и долгое беспамятство.
Подожженные немецкими авиабомбами, всю ночь горели на корню огромные массивы
созревших хлебов. Всю ночь вполнеба стояло багровое, немеркнущее, трепетное зарево,
и в этом освещавшем степь жестоком сиянии войны голубой и призрачный свет
ущербленного месяца казался чрезмерно мягким и, пожалуй, даже совсем ненужным.
Запах гари вместе с ветром перемещался на восток, неотступно сопровождая
отходивших к Дону бойцов, преследуя их, как тягостное воспоминание. И с каждым
километром пройденного пути все мрачнее становилось на душе у Звягинцева, словно
горький, отравленный воздух пожарища оседал у него не только на легких, но и на
сердце…
По дороге к переправе шли последние части прикрытия, тянулись нагруженные
домашним скарбом подводы беженцев, по обочинам проселка, лязгая гусеницами,
подымая золистую пыль, грохотали танки, и отары колхозных овец, спешно
перегоняемых к Дону, завидев танки, в ужасе устремлялись в степь, исчезали в ночи. И
долго еще в темноте слышался дробный топот мелких овечьих копыт, и, затихая, долго
еще звучали плачущие голоса женщин и подростков-гонщиков, пытавшихся остановить и
успокоить ошалевших от страха овец.
В одном месте, обходя остановившуюся на дороге автоколонну, Звягинцев сорвал на
краю поля уцелевший от пожара колос, поднес его к глазам. Это был колос пшеницы
«мелянопус», граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные
усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, и
весь он – обезображенный огнем и жалкий – насквозь пропитался острым запахом дыма.
Звягинцев понюхал колос, невнятно прошептал: