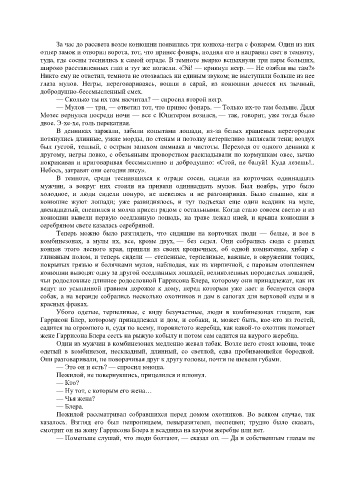Page 105 - Собрание рассказов
P. 105
За час до рассвета возле конюшни появились три конюха-негра с фонарем. Один из них
отпер замок и отворил ворота, тот, что принес фонарь, поднял его и направил свет в темноту,
туда, где сосны теснились к самой ограде. В темноте неярко вспыхнули три пары больших,
широко расставленных глаз и тут же погасли. «Эй! — крикнул негр. — Не озябли вы там?»
Никто ему не ответил, темнота не отозвалась ни единым звуком; не выступили больше из нее
глаза мулов. Негры, переговариваясь, вошли в сарай, из конюшни донесся их зычный,
добродушно-бессмысленный смех.
— Сколько ты их там насчитал? — спросил второй негр.
— Мулов — три, — ответил тот, что принес фонарь. — Только их-то там больше. Дядя
Мозес вернулся посреди ночи — все с Юпитером возился, — так, говорит, уже тогда было
двое. Э-хе-хе, голь перекатная.
В денниках заржали, забили копытами лошади, из-за белых крашеных перегородок
потянулись длинные, узкие морды, по стенам и потолку нетерпеливо заплясали тени; воздух
был густой, теплый, с острым запахом аммиака и чистоты. Переходя от одного денника к
другому, негры ловко, с обезьяньим проворством раскладывали по кормушкам овес, зычно
покрикивая и приговаривая бессмысленно и добродушно: «Стой, не балуй1 Куда лезешь!..
Небось, затравят они сегодня лису».
В темноте, среди теснившихся к ограде сосен, сидели на корточках одиннадцать
мужчин, а вокруг них стояли на привязи одиннадцать мулов. Был ноябрь, утро было
холодное, и люди сидели понуро, не шевелясь и не разговаривая. Было слышно, как в
конюшне жуют лошади; уже развиднялось, и тут подъехал еще один всадник на муле,
двенадцатый, спешился и молча присел рядом с остальными. Когда стало совсем светло и из
конюшни вывели первую оседланную лошадь, на траве лежал иней, и крыша конюшни в
серебряном свете казалась серебряной.
Теперь можно было разглядеть, что сидящие на корточках люди — белые, и все в
комбинезонах, а мулы их, все, кроме двух, — без седел. Они собрались сюда с разных
концов этого лесного края, пришли из своих крошечных, об одной комнатенке, хибар с
глиняным полом, и теперь сидели — степенные, терпеливые, важные, в окружении тощих,
покрытых грязью и болячками мулов, наблюдая, как из кирпичной, с паровым отоплением
конюшни выводят одну за другой оседланных лошадей, великолепных породистых лошадей,
чьи родословные длиннее родословной Гаррисона Блера, которому они принадлежат, как их
ведут по усыпанной гравием дорожке к дому, перед которым уже лает и беснуется свора
собак, а на веранде собрались несколько охотников и дам в сапогах для верховой езды и в
красных фраках.
Убого одетые, терпеливые, с виду безучастные, люди в комбинезонах глядели, как
Гаррисон Блер, которому принадлежал и дом, и собаки, и, может быть, кое-кто из гостей,
садится на огромного и, судя по всему, норовистого жеребца, как какой-то охотник помогает
жене Гаррисона Блера сесть на рыжую кобылу и потом сам садится на каурого жеребца.
Один из мужчин в комбинезонах медленно жевал табак. Возле него стоял юноша, тоже
одетый в комбинезон, нескладный, длинный, со светлой, едва пробивающейся бородкой.
Они разговаривали, не поворачивая друг к другу головы, почти не шевеля губами.
— Это он и есть? — спросил юноша.
Пожилой, не повернувшись, прицелился и плюнул.
— Кто?
— Ну тот, с которым его жена…
— Чья жена?
— Блера.
Пожилой рассматривал собравшихся перед домом охотников. Во всяком случае, так
казалось. Взгляд его был непроницаем, невыразителен, неспешен; трудно было сказать,
смотрит он на жену Гаррисона Блера и всадника на кауром жеребце или нет.
— Поменьше слушай, что люди болтают, — сказал он. — Да и собственным глазам не