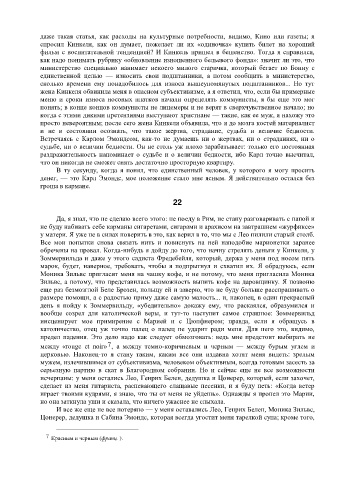Page 103 - Глазами клоуна
P. 103
даже такая статья, как расходы на культурные потребности, видимо, Кино или газеты; я
спросил Кинкеля, как он думает, пожелает ли их «одиночка» купить билет на хороший
фильм с воспитательной тенденцией? И Кинкель пришел в бешенство. Тогда я справился,
как надо понимать рубрику «обновление изношенного бельевого фонда»: значит ли это, что
министерство специально нанимает некоего милого старичка, который бегает по Бонну с
единственной целью — износить свои подштанники, а потом сообщить в министерство,
сколько времени ему понадобилось для износа вышеупомянутых подштанников... Но тут
жена Кинкеля обвинила меня в опасном субъективизме, а я ответил, что, если бы примерные
меню и сроки износа носовых платков начали определять коммунисты, я бы еще это мог
понять; в конце концов коммунисты не лицемеры и не верят в сверхчувственное начало; но
когда с этими дикими претензиями выступают христиане — такие, как ее муж, я нахожу это
просто невероятным; после сего жена Кинкеля объявила, что я до мозга костей материалист
и не в состоянии осознать, что такое жертва, страдание, судьба и величие бедности.
Встречаясь с Карлом Эмондсом, как-то не думаешь ни о жертвах, ни о страданиях, ни о
судьбе, ни о величии бедности. Он не столь уж плохо зарабатывает: только его постоянная
раздражительность напоминает о судьбе и о величии бедности, ибо Карл точно высчитал,
что он никогда не сможет снять достаточно просторную квартиру.
В ту секунду, когда я понял, что единственный человек, у которого я могу просить
денег, — это Карл Эмондс, мое положение стало мне ясным. Я действительно остался без
гроша в кармане.
22
Да, я знал, что не сделаю всего этого: не поеду в Рим, не стану разговаривать с папой и
не буду набивать себе карманы сигаретами, сигарами и арахисом на завтрашнем «журфиксе»
у матери. Я уже не в силах поверить в это, как верил в то, что мы с Лео пилили старый столб.
Все мои попытки снова связать нить и повиснуть на ней наподобие марионетки заранее
обречены на провал. Когда-нибудь я дойду до того, что начну стрелять деньги у Кинкеля, у
Зоммервильда и даже у этого садиста Фредебейля, который, держа у меня под носом пять
марок, будет, наверное, требовать, чтобы я подпрыгнул и схватил их. Я обрадуюсь, если
Моника Зильвс пригласит меня на чашку кофе, и не потому, что меня пригласила Моника
Зильвс, а потому, что представилась возможность выпить кофе на даровщинку. Я позвоню
еще раз безмозглой Беле Брозен, польщу ей и заверю, что не буду больше расспрашивать о
размере помощи, а с радостью приму даже самую малость... и, наконец, в один прекрасный
день я пойду к Зоммервильду, «убедительно» докажу ему, что раскаялся, образумился и
вообще созрел для католической веры, и тут-то наступит самое страшное: Зоммервильд
инсценирует мое примирение с Марией и с Цюпфнером; правда, если я обращусь в
католичество, отец уж точно палец о палец не ударит ради меня. Для него это, видимо,
предел падения. Это дело надо как следует обмозговать: ведь мне предстоит выбирать не
7
между «rouge et noir» , а между темно-коричневым и черным — между бурым углем и
церковью. Наконец-то я стану таким, каким все они издавна хотят меня видеть: зрелым
мужем, излечившимся от субъективизма, человеком объективным, всегда готовым засесть за
серьезную партию в скат в Благородном собрании. Но и сейчас еще не все возможности
исчерпаны: у меня остались Лео, Генрих Белен, дедушка и Цонерер, который, если захочет,
сделает из меня гитариста, распевающего слащавые песенки, и я буду петь: «Когда ветер
играет твоими кудрями, я знаю, что ты от меня не уйдешь». Однажды я пропел это Марии,
но она заткнула уши и сказала, что ничего ужаснее не слыхала.
И все же еще не все потеряно — у меня оставались Лео, Генрих Белен, Моника Зильвс,
Цонерер, дедушка и Сабина Эмондс, которая всегда угостит меня тарелкой супа; кроме того,
7 Красным и черным (франц. ).