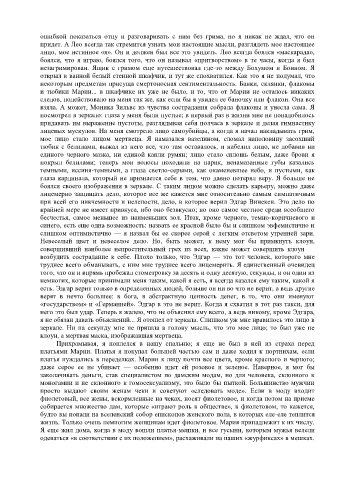Page 108 - Глазами клоуна
P. 108
ошибкой показаться отцу и разговаривать с ним без грима, но я никак не ждал, что он
придет. А Лео всегда так стремится узнать мои настоящие мысли, разглядеть мое настоящее
лицо, мое истинное «я». Он и должен был все это увидеть. Лео всегда боялся «маскарада»,
боялся, что я играю, боялся того, что он называл «притворством» в те часы, когда я был
незагримирован. Ящик с гримом еще путешествовал где-то между Бохумом и Бонном. Я
открыл в ванной белый стенной шкафчик, и тут же спохватился. Как это я не подумал, что
некоторым предметам присуща смертоносная сентиментальность. Банки, склянки, флаконы
и тюбики Марии... в шкафчике их уже не было, и то, что от Марии не осталось никаких
следов, подействовало на меня так же, как если бы я увидел ее баночку или флакон. Она все
взяла. А может, Моника Зильвс из чувства сострадания собрала флаконы и унесла сама. Я
посмотрел в зеркало: глаза у меня были пустые; в первый раз в жизни мне не понадобилось
придавать им выражение пустоты, разглядывая себя полчаса в зеркале и делая гимнастику
лицевых мускулов. На меня смотрело лицо самоубийцы, а когда я начал накладывать грим,
мое лицо стало лицом мертвеца. Я намазался вазелином, сломал наполовину засохший
тюбик с белилами, выжал из него все, что там оставалось, и набелил лицо, не добавив ни
единого черного мазка, ни единой капли румян; лицо стало сплошь белым, даже брови я
покрыл белилами; теперь мои волосы походили на парик, ненамазанные губы казались
темными, иссиня-темными, а глаза светло-серыми, как окаменевшее небо, и пустыми, как
глаза кардинала, который не признается себе в том, что давно потерял веру. Я больше не
боялся своего изображения в зеркале. С таким лицом можно сделать карьеру, можно даже
лицемерно защищать дело, которое все же кажется мне относительно самым симпатичным
при всей его никчемности и нелепости, дело, в которое верил Эдгар Винекен. Это дело по
крайней мере не имеет привкуса, ибо оно безвкусно; но оно самое честное среди всеобщего
бесчестья, самое меньшее из наименьших зол. Итак, кроме черного, темно-коричневого и
синего, есть еще одна возможность: назвать ее красной было бы и слишком эвфемистично и
слишком оптимистично — я назвал бы ее скорее серой с легким отсветом утренней зари.
Невеселый цвет и невеселое дело. Но, быть может, к нему мог бы примкнуть клоун,
совершивший наиболее непростительный грех из всех, какие может совершить клоун —
возбудить сострадание к себе. Плохо только, что Эдгар — это тот человек, которого мне
труднее всего обманывать, с ним мне труднее всего лицемерить. Я единственный очевидец
того, что он и впрямь пробежал стометровку за десять и одну десятую, секунды, и он один из
немногих, которые принимали меня таким, какой я есть, я всегда казался ему таким, какой я
есть. Эдгар верит только в определенных людей, больше он ни во что не верит, а ведь другие
верят в нечто большее: в бога, в абстрактную ценность денег, в то, что они именуют
«государством» и «Германией». Эдгар в это не верит. Когда я схватил в тот раз такси, для
него это был удар. Теперь я жалею, что не объяснил ему всего, а ведь никому, кроме Эдгара,
я не обязан давать объяснений... Я отошел от зеркала. Слишком уж мне нравилось это лицо в
зеркале. Ни на секунду мне не пришла в голову мысль, что это мое лицо; то был уже не
клоун, а мертвая маска, изображавшая мертвеца.
Прихрамывая, я поплелся в нашу спальню; я еще не был в ней из страха перед
платьями Марии. Платья я покупал большей частью сам и даже ходил к портнихам, если
платья нуждались в переделках. Марии к лицу почти все цвета, кроме красного и черного;
даже серое ее не убивает — особенно идет ей розовое и зеленое. Наверное, я мог бы
заколачивать деньги, став специалистом по дамским модам, но для человека, склонного к
моногамии и не склонного к гомосексуализму, это было бы пыткой. Большинство мужчин
просто выдают своим женам чеки и советуют «следовать моде». Если в моду входит
фиолетовый, все жены, вскормленные на чеках, носят фиолетовое, и когда потом на приеме
собирается множество дам, которые «играют роль в обществе», в фиолетовом, то кажется,
будто вы попали на вселенский собор епископов женского пола, в которых еле-еле теплится
жизнь. Только очень немногим женщинам идет фиолетовое. Мария принадлежит к их числу.
Я еще жил дома, когда в моду вошли платья-мешки, и все гусыни, которым мужья велели
одеваться «в соответствии с их положением», расхаживали на наших «журфиксах» в мешках.