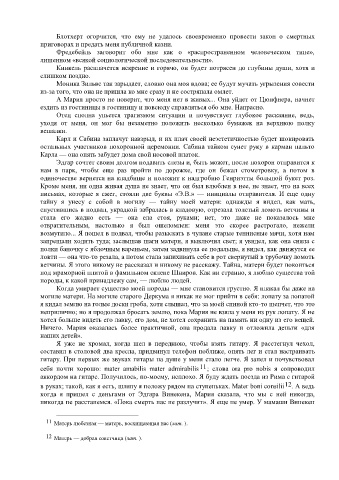Page 112 - Глазами клоуна
P. 112
Блотхерт огорчится, что ему не удалось своевременно провести закон о смертных
приговорах и предать меня публичной казни.
Фредебейль заговорит обо мне как о «распространенном человеческом типе»,
лишенном «всякой социологической последовательности».
Кинкель расплачется искренне и горячо, он будет потрясен до глубины души, хотя и
слишком поздно.
Моника Зильвс так зарыдает, словно она моя вдова; ее будут мучать угрызения совести
из-за того, что она не пришла ко мне сразу и не состряпала омлет.
А Мария просто не поверит, что меня нет в живых... Она уйдет от Цюпфнера, начнет
ездить из гостиницы в гостиницу и повсюду справляться обо мне. Напрасно.
Отец сполна упьется трагизмом ситуации и почувствует глубокое раскаяние, ведь,
уходя от меня, он мог бы незаметно положить несколько бумажек на верхнюю полку
вешалки.
Карл и Сабина заплачут навзрыд, и их плач своей неэстетичностью будет шокировать
остальных участников похоронной церемонии. Сабина тайком сунет руку в карман пальто
Карла — она опять забудет дома свой носовой платок.
Эдгар сочтет своим долгом подавить слезы и, быть может, после похорон отправится к
нам в парк, чтобы еще раз пройти по дорожке, где он бежал стометровку, а потом в
одиночестве вернется на кладбище и положит к надгробию Генриэтты большой букет роз.
Кроме меня, ни одна живая душа не знает, что он был влюблен в нее, не знает, что на всех
письмах, которые я сжег, стояли две буквы «Э.В.» — инициалы отправителя. И еще одну
тайну я унесу с собой в могилу — тайну моей матери: однажды я видел, как мать,
спустившись в подвал, украдкой забралась в кладовую, отрезала толстый ломоть ветчины и
стала его жадно есть — она ела стоя, руками; нет, это даже не показалось мне
отвратительным, настолько я был ошеломлен: меня это скорее растрогало, нежели
возмутило... Я пошел в подвал, чтобы разыскать в чулане старые теннисные мячи, хотя нам
запрещали ходить туда; заслышав шаги матери, я выключил свет; я увидел, как она сняла с
полки баночку с яблочным вареньем, затем задвинула ее подальше, я видел, как движутся ее
локти — она что-то резала, а потом стала запихивать себе в рот свернутый в трубочку ломоть
ветчины. Я этого никому не рассказал и никому не расскажу. Тайна, матери будет покоиться
под мраморной плитой в фамильном склепе Шниров. Как ни странно, я люблю существа той
породы, к какой принадлежу сам, — люблю людей.
Когда умирает существо моей породы — мне становится грустно. Я плакал бы даже на
могиле матери. На могиле старого Деркума я никак не мог прийти в себя: лопату за лопатой
я кидал землю на голые доски гроба, хотя слышал, что за моей спиной кто-то шепчет, что это
неприлично; но я продолжал бросать землю, пока Мария не взяла у меня из рук лопату. Я не
хотел больше видеть его лавку, его дом, не хотел сохранить на память ни одну из его вещей.
Ничего. Мария оказалась более практичной, она продала лавку и отложила деньги «для
наших детей».
Я уже не хромал, когда шел в переднюю, чтобы взять гитару. Я расстегнул чехол,
составил в столовой два кресла, придвинул телефон поближе, опять лег и стал настраивать
гитару. При первых же звуках гитары на душе у меня стало легче. Я запел и почувствовал
себя почти хорошо: mater amabilis mater admirabilis 11 ; слова ora pro nobis я сопроводил
аккордом на гитаре. Получилось, по-моему, неплохо. Я буду ждать поезда из Рима с гитарой
в руках; такой, как я есть, шляпу я положу рядом на ступеньках. Mater boni consilii 12 . А ведь
когда я пришел с деньгами от Эдгара Винекена, Мария сказала, что мы с ней никогда,
никогда не расстанемся. «Пока смерть нас не разлучит». Я еще не умер. У мамаши Винекен
11 Матерь любезная — матерь, восхищающая нас (лат. ).
12 Матерь — добрая советчица (лат. ).