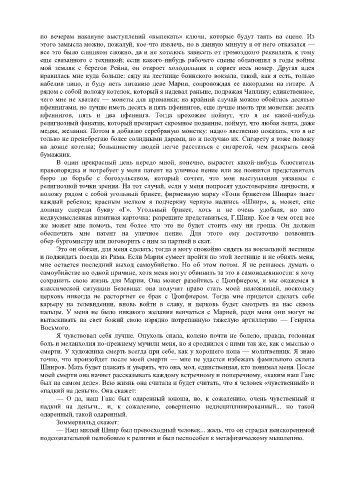Page 111 - Глазами клоуна
P. 111
по вечерам накануне выступлений «выпекать» ключи, которые будут таять на сцене. Из
этого замысла можно, пожалуй, кое-что извлечь, но в данную минуту я от него отказался —
все это было слишком сложно, да и не хотелось зависеть от громоздкого реквизита, к тому
еще связанного с техникой; если какого-нибудь рабочего сцены облапошил в годы войны
мой земляк с берегов Рейна, он откроет холодильник и сорвет весь номер. Другая идея
нравилась мне куда больше: сяду на лестнице боннского вокзала, такой, как я есть, только
набелив лицо, и буду петь литанию деве Марии, сопровождая ее аккордами на гитаре. А
рядом с собой положу котелок, который я надевал раньше, подражая Чаплину; единственное,
чего мне не хватает — монеты для приманки; на крайний случай можно обойтись десятью
пфеннигами, но лучше иметь десять и пять пфеннигов, еще лучше иметь три монетки: десять
пфеннигов, пять и два пфеннига. Тогда прохожие поймут, что я не какой-нибудь
религиозный фанатик, который презирает скромное подаяние, поймут, что любая лепта, даже
медяк, желанна. Потом я добавлю серебряную монетку: надо» явственно показать, что я не
только не пренебрегаю более солидными дарами, но и получаю их. Сигарету я тоже положу
на донце котелка; большинству людей легче расстаться с сигаретой, чем раскрыть свой
бумажник.
В один прекрасный день передо мной, конечно, вырастет какой-нибудь блюститель
правопорядка и потребует у меня патент на уличное пение или же появится представитель
бюро по борьбе с богохульством, который сочтет, что мои выступления уязвимы с
религиозной точки зрения. На тот случай, если у меня попросят удостоверение личности, я
положу рядом с собой угольный брикет, фирменную марку «Топи брикетом Шнира» знает
каждый ребенок; красным мелком я подчеркну черную надпись «Шнир», а, может, еще
допишу спереди букву «Г». Угольный брикет, хоть и не очень удобная, но зато
недвусмысленная визитная карточка: разрешите представиться, Г.Шнир. Кое в чем отец все
же может мне помочь, тем более что это не будет стоить ему ни гроша. Он должен
обеспечить мне патент на уличное пение. Для этого ему достаточно позвонить
обер-бургомистру или поговорить с ним за партией в скат.
Это он обязан, для меня сделать; тогда я могу спокойно сидеть на вокзальной лестнице
и поджидать поезда из Рима. Если Мария сумеет пройти по этой лестнице и не обнять меня,
мне остается последний выход самоубийство. Но об этом потом. Я не решаюсь думать о
самоубийстве по одной причине, хотя меня могут обвинить за это в самонадеянности: я хочу
сохранить свою жизнь для Марии. Она может разойтись с Цюпфнером, и мы окажемся в
классической ситуации Безевица: она получит право стать моей наложницей, поскольку
церковь никогда не расторгнет ее брак с Цюпфнером. Тогда мне придется сделать себе
карьеру на телевидении, вновь войти в славу, и церковь будет смотреть на нас сквозь
пальцы. У меня не было никакого желания венчаться с Марией, ради меня они могут не
вытаскивать на свет божий свою изрядно потрепанную тяжелую артиллерию — Генриха
Восьмого.
Я чувствовал себя лучше. Опухоль спала, колено почти не болело, правда, головная
боль и меланхолия по-прежнему мучили меня, но я сроднился с ними так же, как с мыслью о
смерти. У художника смерть всегда при себе, как у хорошего попа — молитвенник. Я знаю
точно, что произойдет после моей смерти — мне не удастся избежать фамильного склепа
Шниров. Мать будет плакать и уверять, что она, мол, единственная, кто понимал меня. После
моей смерти она начнет рассказывать каждому встречному и поперечному, «каким наш Ганс
был на самом деле». Всю жизнь она считала и будет считать, что я человек «чувственный» и
«падкий на деньги». Она скажет:
— О да, наш Ганс был одаренный юноша, но, к сожалению, очень чувственный и
падкий на деньги... и, к сожалению, совершенно недисциплинированный... но такой
одаренный, такой одаренный.
Зоммервильд скажет:
— Наш милый Шнир был превосходный человек... жаль, что он страдал неискоренимой
подсознательной нелюбовью к религии и был неспособен к метафизическому мышлению.