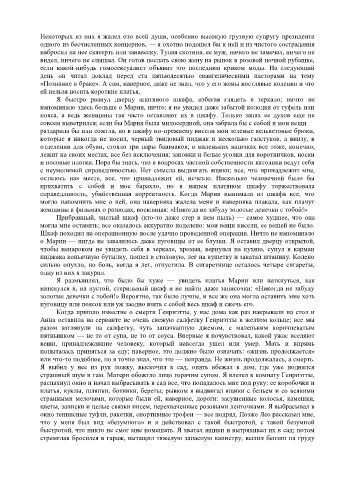Page 109 - Глазами клоуна
P. 109
Некоторых из них я жалел ото всей души, особенно высокую грузную супругу президента
одного из бесчисленных концернов, — я охотно подошел бы к ней и из чистого сострадания
набросил на нее скатерть или занавеску. Тупая скотина, ее муж, ничего не замечал, ничего не
видел, ничего не слышал. Он готов послать свою жену на рынок в розовой ночной рубашке,
если какой-нибудь гомосексуалист объявит это последним криком моды. На следующий
день он читал доклад перед ста пятьюдесятью евангелическими пасторами на тему
«Познание в браке». А сам, наверное, даже не знал, что у его жены костлявые коленки и что
ей нельзя носить короткие платья.
Я быстро рванул дверцу платяного шкафа, избегая глядеть в зеркало; ничто не
напоминало здесь больше о Марии, ничто; я не увидел даже забытой колодки от туфель или
пояса, а ведь женщины так часто оставляют их в шкафу. Только запах ее духов еще не
совсем выветрился; если бы Мария была милосердной, она забрала бы с собой и мои вещи —
раздарила бы или сожгла, но в шкафу по-прежнему висели мои зеленые вельветовые брюки,
которые я никогда не носил, черный твидовый пиджак и несколько галстуков, а внизу, в
отделении для обуви, стояло три пары башмаков; в маленьких ящичках все тоже, конечно,
лежит на своих местах, все без исключения; запонки и белые уголки для воротничков, носки
и носовые платки. Пора бы знать, что в вопросах частной собственности католики ведут себя
с неумолимой справедливостью. Нет смысла выдвигать ящики; все, что принадлежит мне,
осталось на» месте, все, что принадлежит ей, исчезло. Насколько человечней было бы
прихватить с собой и мое барахло, но в нашем платяном шкафу торжествовала
справедливость, убийственная корректность. Когда Мария вынимала из шкафа все, что
могло напомнить мне о ней, она наверняка жалела меня и наверняка плакала, как плачут
женщины в фильмах о разводах, восклицая: «Никогда не забуду золотые денечки с тобой!»
Прибранный, чистый шкаф (кто-то даже стер в нем пыль) — самое худшее, что она
могла мне оставить; все оказалось аккуратно поделено: мои вещи висели, ее вещей не было.
Шкаф походил на операционную после удачно проведенной операции. Ничто не напоминало
о Марии — нигде не завалялось даже пуговицы от ее блузки. Я оставил дверцу открытой,
чтобы ненароком не увидеть себя в зеркале, хромая, вернулся на кухню, сунул в карман
пиджака коньячную бутылку, пошел в столовую, лег на кушетку и закатал штанину. Колено
сильно опухло, но боль, когда я лег, отпустила. В сигаретнице осталось четыре сигареты,
одну из них я закурил.
Я размышлял, что было бы хуже — увидеть платья Марии или наткнуться, как
наткнулся я, на пустой, стерильный шкаф и не найти даже записочки: «Никогда не забуду
золотые денечки с тобой!» Вероятно, так было лучше, и все же она могла оставить мне хоть
пуговицу или поясок или уж заодно взять с собой весь шкаф и сжечь его.
Когда пришло известие о смерти Генриэтты, у нас дома как раз накрывали на стол и
Анна оставила на серванте не очень свежую салфетку Генриэтты в желтом кольце; все мы
разом взглянули на салфетку, чуть запачканную джемом, с маленьким коричневатым
пятнышком — не то от супа, не то от соуса. Впервые я почувствовал, какой ужас вселяют
вещи, принадлежавшие человеку, который навсегда ушел или умер. Мать и впрямь
попыталась приняться за еду; наверное, это должно было означать: «жизнь продолжается»
или что-то подобное, но я точно знал, что это — неправда. Не жизнь продолжалась, а смерть.
Я выбил у нее из рук ложку, выскочил в сад, опять вбежал в дом, где уже поднялся
страшный шум и гам. Матери обожгло лицо горячим супом. Я влетел в комнату Генриэтты,
распахнул окно и начал выбрасывать в сад все, что попадалось мне под руку: ее коробочки и
платья, куклы, шляпки, ботинки, береты; рывком я выдвигал ящики с бельем и со всякими
странными мелочами, которые были ей, наверное, дороги: засушенные колосья, камешки,
цветы, записки и целые связки писем, перехваченные розовыми ленточками. Я выбрасывал в
окно теннисные туфли, ракетки, спортивные трофеи — все подряд. Позже Лео рассказал мне,
что у меня был вид «безумного» и я действовал с такой быстротой, с такой безумной
быстротой, что никто не смог мне помешать. Я хватал ящики и вытряхивал их в сад; потом
стремглав бросился в гараж, вытащил тяжелую запасную канистру, вылил бензин на груду