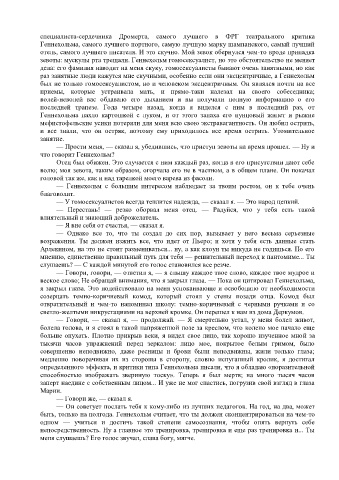Page 71 - Глазами клоуна
P. 71
специалиста-сердечника Дромерта, самого лучшего в ФРГ театрального критика
Геннехольма, самого лучшего портного, самую лучшую марку шампанского, самый лучший
отель, самого лучшего писателя. И это скучно. Мой зевок обернулся чем-то вроде припадка
зевоты: мускулы рта трещали. Геннехольм гомосексуалист, но это обстоятельство не меняет
дела: его фамилия наводит на меня скуку, гомосексуалисты бывают очень занятными, но как
раз занятные люди кажутся мне скучными, особенно если они эксцентричные, а Геннехольм
был не только гомосексуалистом, но и человеком эксцентричным. Он являлся почти на все
приемы, которые устраивала мать, и прямо-таки налезал на своего собеседника;
волей-неволей вас обдавало его дыханием и вы получали полную информацию о его
последней трапезе. Года четыре назад, когда я виделся с ним в последний раз, от
Геннехольма пахло картошкой с луком, и от этого запаха его пунцовый жилет и рыжие
мефистофельские усики потеряли для меня всю свою экстравагантность. Он любил острить,
и все знали, что он остряк, поэтому ему приходилось все время острить. Утомительное
занятие.
— Прости меня, — сказал я, убедившись, что приступ зевоты на время прошел. — Ну и
что говорит Геннехольм?
Отец был обижен. Это случается с ним каждый раз, когда в его присутствии дают себе
волю; моя зевота, таким образом, огорчала его не в частном, а в общем плане. Он покачал
головой так же, как и над тарелкой моего варева из фасоли.
— Геннехольм с большим интересом наблюдает за твоим ростом, он к тебе очень
благоволит.
— У гомосексуалистов всегда теплится надежда, — сказал я. — Это народ цепкий.
— Перестань! — резко оборвал меня отец. — Радуйся, что у тебя есть такой
влиятельный и знающий доброжелатель.
— Я вне себя от счастья, — сказал я.
— Однако все то, что ты создал до сих пор, вызывает у него весьма серьезные
возражения. Ты должен изжить все, что идет от Пьеро; и хотя у тебя есть данные стать
Арлекином, на это не стоит размениваться... ну, а как клоун ты никуда не годишься. По его
мнению, единственно правильный путь для тебя — решительный переход к пантомиме... Ты
слушаешь? — С каждой минутой его голос становился все резче.
— Говори, говори, — ответил я, — я слышу каждое твое слово, каждое твое мудрое и
веское слово; Не обращай внимания, что я закрыл глаза. — Пока он цитировал Геннехольма,
я закрыл глаза. Это подействовало на меня успокаивающе и освободило от необходимости
созерцать темно-коричневый комод, который стоял у стены позади отца. Комод был
отвратительный и чем-то напоминал школу: темно-коричневый с черными ручками и со
светло-желтыми инкрустациями на верхней кромке. Он перешел к нам из дома Деркумов.
— Говори, — сказал я, — продолжай. — Я смертельно устал, у меня болел живот,
болела голова, и я стоял в такой напряженной позе за креслом, что колено мое начало еще
больше опухать. Плотно прикрыв веки, я видел свое лицо, так хорошо изученное мной за
тысячи часов упражнений перед зеркалом: лицо мое, покрытое белым гримом, было
совершенно неподвижно, даже ресницы и брови были неподвижны, жили только глаза;
медленно поворачивая их из стороны в сторону, словно испуганный кролик, я достигал
определенного эффекта, и критики типа Геннехольма писали, что я обладаю «поразительной
способностью изображать звериную тоску». Теперь я был мертв; на много тысяч часов
заперт наедине с собственным лицом... И уже не мог спастись, погрузив свой взгляд в глаза
Марии.
— Говори же, — сказал я.
— Он советует послать тебя к кому-либо из лучших педагогов. На год, на два, может
быть, только на полгода. Геннехольм считает, что ты должен сконцентрироваться на чем-то
одном — учиться и достичь такой степени самосознания, чтобы опять вернуть себе
непосредственность. Ну а главное это тренировка, тренировка и еще раз тренировка и... Ты
меня слушаешь? Его голос звучал, слава богу, мягче.