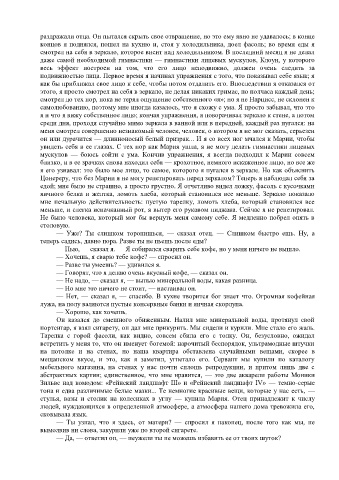Page 68 - Глазами клоуна
P. 68
раздражали отца. Он пытался скрыть свое отвращение, но это ему явно не удавалось; в конце
концов я поднялся, пошел на кухню и, стоя у холодильника, доел фасоль; во время еды я
смотрел на себя в зеркало, которое висит над холодильником. В последний месяц я не делал
даже самой необходимой гимнастики — гимнастики лицевых мускулов, Клоун, у которого
весь эффект построен на том, что его лицо неподвижно, должен очень следить за
подвижностью лица. Первое время я начинал упражнения с того, что показывал себе язык; я
как бы приближал свое лицо к себе, чтобы потом отдалить его. Впоследствии я отказался от
этого, я просто смотрел на себя в зеркало, не делая никаких гримас, по полчаса каждый день;
смотрел до тех пор, пока не терял ощущение собственного «я»; но я не Нарцисс, не склонен к
самолюбованию, поэтому мне иногда казалось, что я схожу с ума. Я просто забывал, что это
я и что я вижу собственное лицо; кончая упражнения, я поворачивал зеркало к стене, а потом
среди дня, проходя случайно мимо зеркала в ванной или в передней, каждый раз пугался: на
меня смотрел совершенно незнакомый человек, человек, о котором я не мог сказать, серьезен
он или дурачится — длинноносый белый призрак... И я со всех ног мчался к Марии, чтобы
увидеть себя в ее глазах. С тех пор как Мария ушла, я не могу делать гимнастики лицевых
мускулов — боюсь сойти с ума. Кончив упражнения, я всегда подходил к Марии совсем
близко, и в ее зрачках снова находил себя — крохотное, немного искаженное лицо, но все же
я его узнавал: это было мое лицо, то самое, которого я пугался в зеркале. Но как объяснить
Цонереру, что без Марии я не могу репетировать перед зеркалом? Теперь я наблюдал себя за
едой; мне было не страшно, а просто грустно. Я отчетливо видел ложку, фасоль с кусочками
яичного белка и желтка, ломоть хлеба, который становился все меньше. Зеркало показало
мне печальную действительность: пустую тарелку, ломоть хлеба, который становился все
меньше, и слегка испачканный рот, я вытер его рукавом пиджака. Сейчас я не репетировал.
Не было человека, который мог бы вернуть меня самому себе. Я медленно побрел опять в
столовую.
— Уже? Ты слишком торопишься, — сказал отец. — Слишком быстро ешь. Ну, а
теперь садись, давно пора. Разве ты не пьешь после еды?
— Пью, — сказал я. — Я собирался сварить себе кофе, но у меня ничего не вышло.
— Хочешь, я сварю тебе кофе? — спросил он.
— Разве ты умеешь? — удивился я.
— Говорят, что я делаю очень вкусный кофе, — сказал он.
— Не надо, — сказал я, — выпью минеральной воды, какая разница.
— Но мне это ничего не стоит, — настаивал он.
— Нет, — сказал я, — спасибо. В кухне творится бог знает что. Огромная кофейная
лужа, на полу валяются пустые консервные банки и яичная скорлупа.
— Хорошо, как хочешь.
Он казался до смешного обиженным. Налил мне минеральной воды, протянул свой
портсигар, я взял сигарету, он дал мне прикурить. Мы сидели и курили. Мне стало его жаль.
Тарелка с горой фасоли, как видно, совсем сбила его с толку. Он, безусловно, ожидал
встретить у меня то, что он именует богемой: нарочитый беспорядок, ультрамодные штучки
на потолке и на стенах, но наша квартира обставлена случайными вещами, скорее в
мещанском вкусе, и это, как я заметил, угнетало его. Сервант мы купили по каталогу
мебельного магазина, на стенах у нас почти сплошь репродукции, и притом лишь две с
абстрактных картин; единственное, что мне нравится, — это две акварели работы Моники
Зильвс над комодом: «Рейнский ландшафт III» и «Рейнский ландшафт IV» — темно-серые
тона и едва различимые белые мазки... Те немногие красивые вещи, которые у нас есть, —
стулья, вазы и столик на колесиках в углу — купила Мария. Отец принадлежит к числу
людей, нуждающихся в определенной атмосфере, а атмосфера нашего дома тревожила его,
сковывала язык.
— Ты узнал, что я здесь, от матери? — спросил я наконец, после того как мы, не
вымолвив ни слова, закурили уже по второй сигарете.
— Да, — ответил он, — неужели ты не можешь избавить ее от твоих шуток?