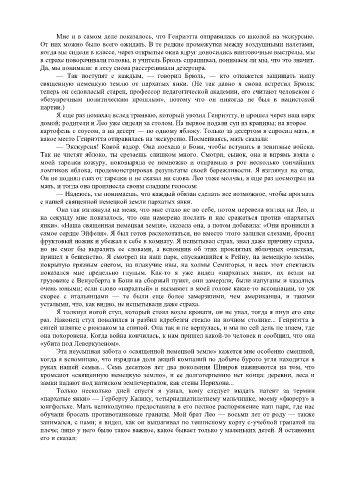Page 8 - Глазами клоуна
P. 8
Мне и в самом деле показалось, что Генриэтта отправилась со школой на экскурсию.
От них можно было всего ожидать. В те редкие промежутки между воздушными налетами,
когда мы сидели в классе, через открытые окна вдруг доносились винтовочные выстрелы, мы
в страхе поворачивали головы, и учитель Брюль спрашивал, понимаем ли мы, что это значит.
Да, мы понимали: в лесу снова расстреливали дезертира.
— Так поступят с каждым, — говорил Брюль, — кто откажется защищать нашу
священную немецкую землю от пархатых янки. (Не так давно я снова встретил Брюля;
теперь он седовласый старец, профессор педагогической академии, его считают человеком с
«безупречным политическим прошлым», потому что он никогда не был в нацистской
партии.)
Я еще раз помахал вслед трамваю, который увозил Генриэтту, и прошел через наш парк
домой; родители и Лео уже сидели за столом. На первое подали суп из крапивы; на второе —
картофель с соусом, а на десерт — по одному яблоку. Только за десертом я спросил мать, в
какое место Генриэтта отправилась на экскурсию. Посмеиваясь, мать сказала:
— Экскурсия! Какой вздор. Она поехала в Бонн, чтобы вступить в зенитные войска.
Так не чистят яблоко, ты срезаешь слишком много. Смотри, сынок, она и впрямь взяла с
моей тарелки кожуру, поковыряла ее немножко и отправила в рот несколько тончайших
ломтиков яблока, продемонстрировав результаты своей бережливости. Я взглянул на отца.
Он не поднял глаз от тарелки и не сказал ни слова. Лео тоже молчал, я еще раз посмотрел на
мать, и тогда она произнесла своим сладким голосом:
— Надеюсь, ты понимаешь, что каждый обязан сделать все возможное, чтобы прогнать
с нашей священной немецкой земли пархатых янки.
Она так взглянула на меня, что мне стало не по себе, потом перевела взгляд на Лео, и
на секунду мне показалось, что она намерена послать и нас сражаться против «пархатых
янки». «Наша священная немецкая земля», сказала она, а потом добавила: «Они проникли в
самое сердце Эйфеля». Я был готов расхохотаться, но вместо этого залился слезами, бросил
фруктовый ножик и убежал к себе в комнату. Я испытывал страх, знал даже причину страха,
но не смог бы выразить ее словами, а вспомнив об этих проклятых яблочных очистках,
пришел в бешенство. Я смотрел на наш парк, спускавшийся к Рейну, на немецкую землю,
покрытую грязным снегом, на плакучие ивы, на холмы Семигорья, и весь этот спектакль
показался мне предельно глупым. Как-то я уже видел «пархатых янки», их везли на
грузовике с Венусберга в Бонн на сборный пункт, они замерзли, были напуганы и казались
очень юными; если слово «пархатый» и вызывает в моей голове какие-то ассоциации, то уж
скорее с итальянцами — те были еще более замерзшими, чем американцы, и такими
усталыми, что, как видно, не испытывали даже страха.
Я толкнул ногой стул, который стоял возле кровати, он не упал, тогда я пнул его еще
раз. Наконец стул повалился и разбил вдребезги стекло на ночном столике... Генриэтта в
синей шляпке с рюкзаком за спиной. Она так и не вернулась, и мы по сей день не знаем, где
она похоронена. Когда война кончилась, к нам пришел какой-то человек и сообщил, что она
«убита под Леверкузеном».
Эта неусыпная забота о «священной немецкой земле» кажется мне особенно смешной,
когда я вспоминаю, что изрядная доля акций компаний по добыче бурого угля находится в
руках нашей семьи... Семь десятков лет два поколения Шниров наживаются на том, что
кромсают «священную немецкую землю», и ее долготерпению нет конца: деревни, леса и
замки падают под натиском землечерпалок, как стены Иерихона...
Только несколько дней спустя я узнал, кому следует выдать патент за термин
«пархатые янки» — Герберту Калику, четырнадцатилетнему мальчишке, моему «фюреру» в
юнгфольке. Мать великодушно предоставила в его полное распоряжение наш парк, где нас
обучали бросать противотанковые гранаты. Мой брат Лео — восьми лет от роду — также
занимался, с нами; я видел, как он вышагивал по теннисному корту с-учебной гранатой на
плече; лицо у него было такое важное, какое бывает только у маленьких детей. Я остановил
его и сказал: