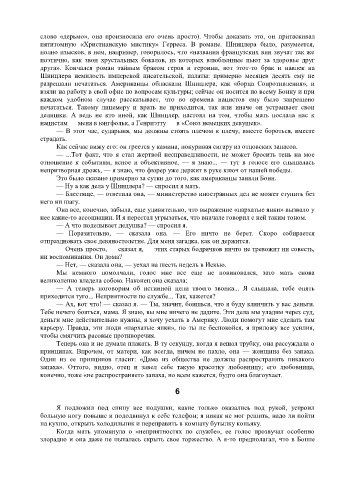Page 13 - Глазами клоуна
P. 13
слово «дерьмо», она произносила его очень просто). Чтобы доказать это, он притаскивал
пятитомную «Христианскую мистику» Герреса. В романе. Шницлера было, разумеется,
полно изысков, в нем, например, говорилось, что «названия французских вин звучат так же
поэтично, как звон хрустальных бокалов, из которых влюбленные пьют за здоровье друг
друга». Кончался роман тайным браком героя и героини, вот этот-то брак и навлек на
Шницлера немилость имперской писательской, палаты: примерно месяцев десять ему не
разрешали печататься. Американцы обласкали Шницлера, как «борца Сопротивления», и
взяли на работу в свой офис по вопросам культуры; сейчас он носится по всему Бонну и при
каждом удобном случае рассказывает, что во времена нацистов ему было запрещено
печататься. Такому лицемеру и врать не приходится, так или иначе он устраивает свои
делишки. А ведь не кто иной, как Шницлер, настоял на том, чтобы мать послала нас к
нацистам — меня в юнгфольк, а Генриэтту — в «Союз немецких девушек».
— В этот час, сударыня, мы должны стоять плечом к плечу, вместе бороться, вместе
страдать.
Как сейчас вижу его: он греется у камина, покуривая сигару из отцовских запасов.
— ...Тот факт, что я стал жертвой несправедливости, не может бросить тень на мое
отношение к событиям, ясное и объективное, — я знаю... — тут в голосе его слышалась
непритворная дрожь, — я знаю, что фюрер уже держит в руке ключ от нашей победы.
Это было сказано примерно за сутки до того, как американцы заняли Бонн.
— Ну а как дела у Шницлера? — спросил я мать.
— Блестяще, — ответила она, — министерство иностранных дел не может ступить без
него ни шагу.
Она все, конечно, забыла, еще удивительно, что выражение «пархатые янки» вызвало у
нее какие-то ассоциации. И я перестал угрызаться, что вначале говорил с ней таким тоном.
— А что поделывает дедушка? — спросил я.
— Поразительно, — сказала она. — Его ничто не берет. Скоро собирается
отпраздновать свое девяностолетие. Для меня загадка, как он держится.
— Очень просто, — сказал я, — этих старых бодрячков ничто не тревожит ни совесть,
ни воспоминания. Он дома?
— Нет, — сказала она, — уехал на шесть недель в Искью.
Мы немного помолчали, голос мне все еще не повиновался, зато мать снова
великолепно владела собою. Наконец она сказала:
— А теперь поговорим об истинной цели твоего звонка... Я слышала, тебе опять
приходится туго... Неприятности по службе... Так, кажется?
— Ах, вот что! — сказал я. — Ты, значит, боишься, что я буду клянчить у вас деньги.
Тебе нечего бояться, мама. Я знаю, вы мне ничего не дадите. Эти дела мы уладим через суд,
деньги мне действительно нужны, я хочу уехать в Америку. Люди помогут мне сделать там
карьеру. Правда, эти люди «пархатые янки», но ты не беспокойся, я приложу все усилия,
чтобы смягчить расовые противоречия.
Теперь она и не думала плакать. В ту секунду, когда я вешал трубку, она рассуждала о
принципах. Впрочем, от матери, как всегда, ничем не пахло, она — женщина без запаха.
Один из ее принципов гласит: «Дама из общества не должна распространять никакого
запаха». Оттого, видно, отец и завел себе такую красотку любовницу; его любовница,
конечно, тоже «не распространяет» запаха, но всем кажется, будто она благоухает.
6
Я подложил под спину все подушки, какие только оказались под рукой, устроил
больную ногу повыше и пододвинул к себе телефон; я никак не мог решить, надо ли пойти
на кухню, открыть холодильник и переправить в комнату бутылку коньяку.
Когда мать упомянула о «неприятностях по службе», ее голос прозвучал особенно
злорадно и она даже не пыталась скрыть свое торжество. А я-то предполагал, что в Бонне