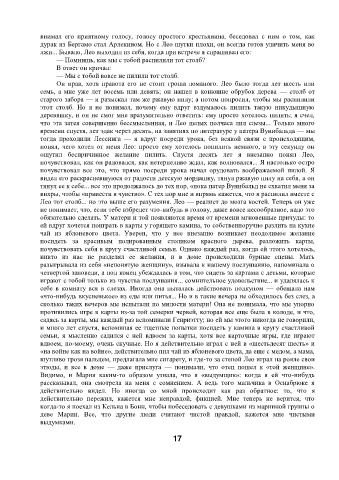Page 87 - Глазами клоуна
P. 87
внимал его приятному голосу, голосу простого крестьянина, беседовал с ним о том, как
дурак из Бергамо стал Арлекином. Но с Лео шутки плохи, он всегда готов уличить меня во
лжи... Бывало, Лео выходил из себя, когда при встрече я спрашивал его:
— Помнишь, как мы с тобой распилили тот столб?
В ответ он кричал:
— Мы с тобой вовсе не пилили тот столб.
Он прав, хотя правота его не стоит гроша ломаного. Лео было тогда лет шесть или
семь, а мне уже лет восемь или девять; он нашел в конюшне обрубок дерева — столб от
старого забора — и разыскал там же ржавую пилу; а потом попросил, чтобы мы распилили
этот столб. Но я не понимал, почему ему вдруг вздумалось пилить такую никудышную
деревяшку, и он не смог мне вразумительно ответить: ему просто хотелось пилить; я счел,
что эта затея совершенно бессмысленная, и Лео целых полчаса лил слезы... Только много
времени спустя, лет эдак через десять, на занятиях по литературе у патера Вунибальда — мы
тогда проходили Лессинга — я вдруг посреди урока, без всякой связи с происходящим,
понял, чего хотел от меня Лео: просто ему хотелось попилить немного, в эту секунду он
ощутил беспричинное желание пилить. Спустя десять лет я внезапно понял Лео,
почувствовал, как он радовался, как нетерпеливо ждал, как волновался... Я настолько остро
почувствовал все это, что прямо посреди урока начал орудовать воображаемой пилой. Я
видел его раскрасневшуюся от радости детскую мордашку, тянул ржавую пилу на себя, а он
тянул ее к себе... все это продолжалось до тех пор, «пока патер Вунибальд не схватил меня за
вихры, чтобы «привести в чувство». С тех пор мне и впрямь кажется, что я распилил вместе с
Лео тот столб... но это выше его разумения. Лео — реалист до мозга костей. Теперь он уже
не понимает, что, если тебе взбредет что-нибудь в голову, даже вовсе несообразное, надо это
обязательно сделать. У матери и той появляются время от времени мгновенные причуды: то
ей вдруг хочется поиграть в карты у горящего камина, то собственноручно разлить на кухне
чай из яблоневого цвета. Уверен, что у нее внезапно возникает неодолимое желание
посидеть за красивым полированным столиком красного дерева, разложить карты,
почувствовать себя в кругу счастливой семьи. Однако каждый раз, когда ей этого хотелось,
никто из нас не разделял ее желания, и в доме происходили бурные сцены. Мать
разыгрывала из себя «непонятую женщину», взывала к нашему послушанию, напоминала о
четвертой заповеди, а под конец убеждалась в том, что сидеть за картами с детьми, которые
играют с тобой только из чувства послушания... сомнительное удовольствие... и удалялась к
себе в комнату вся в слезах. Иногда она пыталась действовать подкупом — обещала нам
«что-нибудь вкусненькое» из еды или питья... Но и в такие вечера не обходилось без слез, а
сколько таких вечеров мы испытали по милости матери! Она не понимала, что мы упорно
противились игре в карты из-за той семерки червей, которая все еще была в колоде, и что,
садясь за карты, мы каждый раз вспоминали Генриэтту; но ей мы этого никогда не говорили,
и много лет спустя, вспоминая ее тщетные попытки посидеть у камина в кругу счастливой
семьи, я мысленно садился с ней вдвоем за карты, хотя все карточные игры, где играют
вдвоем, по-моему, очень скучные. Но я действительно играл с ней в «шестьдесят шесть» и
«на войне как на войне», действительно пил чай из яблоневого цвета, да еще с медом, а мама,
шутливо грозя пальцем, предлагала мне сигарету, и где-то за стеной Лео играл на рояле свои
этюды, и все в доме — даже прислуга — понимали, что отец пошел к «той женщине».
Видимо, и Мария каким-то образом узнала, что я «выдумщик»: когда я ей что-нибудь
рассказывал, она смотрела на меня с сомнением. А ведь того мальчика в Оснабрюке я
действительно видел. Но иногда со мной происходит как раз обратное: то, что я
действительно пережил, кажется мне неправдой, фикцией. Мне теперь не верится, что
когда-то я поехал из Кельна в Бонн, чтобы побеседовать с девушками из марииной группы о
деве Марии. Все, что другие люди считают чистой правдой, кажется мне чистыми
выдумками.
17