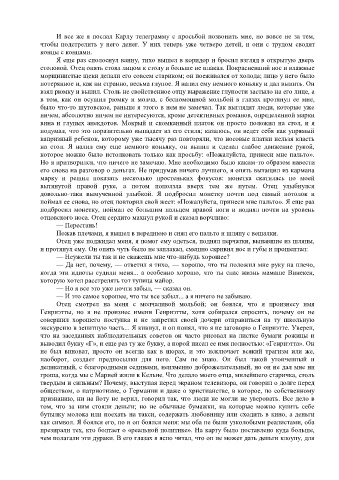Page 82 - Глазами клоуна
P. 82
И все же я послал Карлу телеграмму с просьбой позвонить мне, но вовсе не за тем,
чтобы подстрелить у него денег. У них теперь уже четверо детей, и они с трудом сводят
концы с концами.
Я еще раз сполоснул ванну, тихо вышел в коридор и бросил взгляд в открытую дверь
столовой. Отец опять стоял лицом к столу и больше не плакал. Покрасневший нос и влажные
морщинистые щеки делали его совсем стариком; он поеживался от холода; лицо у него было
потерянное и, как ни странно, весьма глупое. Я налил ему немного коньяку и дал выпить. Он
взял рюмку и выпил. Столь не свойственное отцу выражение глупости застыло на его лице, а
в том, как он осушил рюмку и молча, с беспомощной мольбой в глазах протянул ее мне,
было что-то шутовское, раньше я этого в нем не замечал. Так выглядят люди, которые уже
ничем, абсолютно ничем не интересуются, кроме детективных романов, определенной марки
вина и глупых анекдотов. Мокрый и скомканный платок он просто положил на стол, и я
подумал, что это поразительно выпадает из его стиля; казалось, он ведет себя как упрямый
капризный ребенок, которому уже тысячу раз повторяли, что носовые платки нельзя класть
на стол. Я налил ему еще немного коньяку, он выпил и сделал слабое движение рукой,
которое можно было истолковать только как просьбу: «Пожалуйста, принеси мне пальто».
Но я притворился, что ничего не замечаю. Мне необходимо было каким-то образом навести
его снова на разговор о деньгах. Не придумав ничего лучшего, я опять вытащил из кармана
марку и решил показать несколько простеньких фокусов: монетка скатилась по моей
вытянутой правой руке, а потом поползла вверх тем же путем. Отец улыбнулся
довольно-таки вымученной улыбкой. Я подбросил монетку почти под самый потолок и
поймал ее снова, но отец повторил свой жест: «Пожалуйста, принеси мне пальто». Я еще раз
подбросил монетку, поймал ее большим пальцем правой ноги и поднял почти на уровень
отцовского носа. Отец сердито махнул рукой и сказал ворчливо:
— Перестань!
Пожав плечами, я вышел в переднюю и снял его пальто и шляпу с вешалки.
Отец уже поджидал меня, я помог ему одеться, поднял перчатки, выпавшие из шляпы,
и протянул ему. Он опять чуть было не заплакал, смешно скривил нос и губы и прошептал:
— Неужели ты так и не скажешь мне что-нибудь хорошее?
— Да нет, почему, — ответил я тихо, — хорошо, что ты положил мне руку на плечо,
когда эти идиоты судили меня... а особенно хорошо, что ты спас жизнь мамаше Винекен,
которую хотел расстрелять тот тупица майор.
— Но я все это уже почти забыл, — сказал он.
— И это самое хорошее, что ты все забыл... а я ничего не забываю.
Отец смотрел на меня с молчаливой мольбой; он боялся, что я произнесу имя
Генриэтты, но я не произнес имени Генриэтты, хотя собирался спросить, почему он не
совершил хорошего поступка и не запретил своей дочери отправиться на ту школьную
экскурсию в зенитную часть... Я кивнул, и он понял, что я не заговорю о Генриэтте. Уверен,
что на заседаниях наблюдательных советов он часто рисовал на листке бумаги рожицы и
выводил букву «Г», и еще раз ту же букву, а порой писал ее имя полностью: «Генриэтта». Он
не был виноват, просто он всегда как в шорах, и это исключает всякий трагизм или же,
наоборот, создает предпосылки для него. Сам не знаю. Он был такой утонченный и
деликатный, с благородными сединами, неизменно доброжелательный, но он не дал мне ни
гроша, когда мы с Марией жили в Кельне. Что делало моего отца, милейшего старичка, столь
твердым и сильным? Почему, выступая перед экраном телевизора, он говорил о долге перед
обществом, о патриотизме, о Германии и даже о христианстве, в которое, по собственному
признанию, ни на йоту не верил, говорил так, что люди не могли не уверовать. Все дело в
том, что за ним стояли деньги; но не обычные бумажки, на которые можно купить себе
бутылку молока или поехать на такси, содержать любовницу или сходить в кино, а деньги
как символ. Я боялся его, но и он боялся меня: мы оба не были узколобыми реалистами, оба
презирали тех, кто болтает о «реальной политике». На карту было поставлено куда больше,
чем полагали эти дураки. В его глазах я ясно читал, что он не может дать деньги клоуну, для