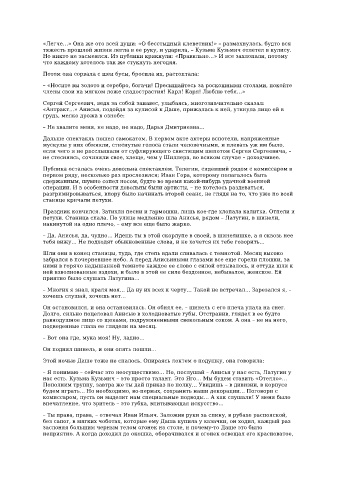Page 142 - Хождение по мукам. Хмурое утро
P. 142
«Легче…» Она же ото всей души: «О бесстыдный клеветник!» – размахнулась, будто вся
тяжесть прошлой жизни легла в ее руку, и ударила, – Кузьма Кузьмич отлетел в кулису.
Но никто не засмеялся. Из публики крикнули: «Правильно…» И все захлопали, потому
что каждому хотелось так же стукнуть негодяя.
Потом она сорвала с шеи бусы, бросила их, растоптала:
– «Носите вы золото и серебро, богачи! Пресыщайтесь за роскошными столами, покойте
члены свои на мягком ложе сладострастия! Карл! Карл! Люблю тебя…»
Сергей Сергеевич, ведя за собой занавес, улыбаясь, многозначительно сказал:
«Антракт…» Анисья, подойдя за кулисой к Даше, прижалась к ней, уткнула лицо ей в
грудь, мелко дрожа в ознобе:
– Не хвалите меня, не надо, не надо, Дарья Дмитриевна…
Дальше спектакль пошел самокатом. В первом акте актеры вспотели, напряженные
мускулы у них обмякли, стиснутые голоса стали человечными, и плевать уж им было,
если чего и не расслышали от суфлирующего свистящим шепотом Сергея Сергеевича, –
не стесняясь, сочиняли свое, хлеще, чем у Шиллера, во всяком случае – доходчивее.
Публика осталась очень довольна спектаклем. Телегин, сидевший рядом с комиссаром в
первом ряду, несколько раз прослезился; Иван Гора, которому полагалось быть
сдержанным, шумно сопел носом, будто во время какой-нибудь удачной военной
операции. И в особенности довольны были артисты, – не хотелось раздеваться,
разгримировываться, впору было начинать второй сеанс, не глядя на то, что уже по всей
станице кричали петухи.
Праздник кончился. Затихли песни и гармошки, лишь кое-где хлопала калитка. Отпели и
петухи. Станица спала. По улице медленно шла Анисья, рядом – Латугин, в шинели,
накинутой на одно плечо, – ему все еще было жарко.
– Да, Анисья, да, чудно… Идешь ты в этой скорлупе в своей, в шинелишке, а я сквозь нее
тебя вижу… Не подходят обыкновенные слова, и не хочется их тебе говорить…
Шли они в конец станицы, туда, где степь вдали сливалась с темнотой. Месяц высоко
забрался в почерневшее небо. А перед Анисьиными глазами все еще горели плошки, за
ними в горячо надышанной темноте каждое ее слово с силой отзывалось, и оттуда шли к
ней взволнованные вздохи, и было в этой ее силе бездонное, небывалое, женское. Ей
приятно было слушать Латугина…
– Многих я знал, краля моя… Да ну их всех к черту… Такой не встречал… Зарезался я, –
хочешь слушай, хочешь нет…
Он остановился, и она остановилась. Он обнял ее, – шинель с его плеча упала на снег.
Долго, сильно поцеловал Анисью в холодноватые губы. Отстранив, глядел в ее будто
равнодушное лицо со щеками, подрумяненными свекольным соком. А она – не на него,
подведенные глаза ее глядели на месяц.
– Вот она где, мука моя! Ну, ладно…
Он поднял шинель, и они опять пошли…
Этой ночью Даше тоже не спалось. Опираясь локтем о подушку, она говорила:
– Я понимаю – сейчас это неосуществимо… Но, послушай – Анисья у нас есть, Латугин у
нас есть. Кузьма Кузьмич – это просто талант. Это Яго… Мы будем ставить «Отелло»…
Пополним труппу, завтра же ты дай приказ по полку… Увидишь – в дивизии, в корпусе
будем играть… Но необходимо, во-первых, сохранить наши декорации… Поговори с
комиссаром, пусть он выделит нам специальные подводы… А как слушали! У меня было
впечатление, что зритель – это губка, впитывающая искусство…
– Ты права, права, – отвечал Иван Ильич. Заложив руки за спину, в рубахе распояской,
без сапог, в мягких чоботах, которые ему Даша купила у казачки, он ходил, каждый раз
заслоняя большим черным телом огонек на столе, и почему-то Даше это было
неприятно. А когда доходил до окошка, оборачивался и огонек освещал его красноватое,