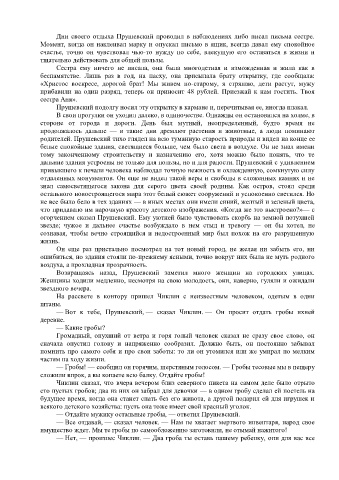Page 29 - Котлован
P. 29
Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо писал письма сестре.
Момент, когда он наклеивал марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокойное
счастье, точно он чувствовал чью-то нужду по себе, влекущую его оставаться в жизни и
тщательно действовать для общей пользы.
Сестра ему ничего не писала, она была многодетная и изможденная и жила как в
беспамятстве. Лишь раз в год, на пасху, она присылала брату открытку, где сообщала:
«Христос воскресе, дорогой брат! Мы живем по-старому, я стряпаю, дети растут, мужу
прибавили на один разряд, теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам гостить. Твоя
сестра Аня».
Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и, перечитывая ее, иногда плакал.
В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Однажды он остановился на холме, в
стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не
продолжалось дальше — в такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают
родителей. Прушевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее
белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени
тому законченному строительству и назначению его, хотя можно было понять, что те
дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости. Прушевский с удивлением
привыкшего к печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную, сомкнутую силу
отдаленных монументов. Он еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не
знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров, стоял среди
остального новостроящегося мира этот белый сюжет сооружений и успокоенно светился. Но
не все было бело в тех зданиях — в иных местах они имели синий, желтый и зеленый цвета,
что придавало им нарочную красоту детского изображения. «Когда же это выстроено?»— с
огорчением сказал Прушевский. Ему уютней было чувствовать скорбь на земной потухшей
звезде; чужое и дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу — он бы хотел, не
сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную
жизнь.
Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая ни забыть его, ни
ошибиться, но здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть родного
воздуха, а прохладная прозрачность.
Возвращаясь назад, Прушевский заметил много женщин на городских улицах.
Женщины ходили медленно, несмотря на свою молодость, они, наверно, гуляли и ожидали
звездного вечера.
На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным человеком, одетым в одни
штаны.
— Вот к тебе, Прушевский, — сказал Чиклин. — Он просит отдать гробы ихней
деревне.
— Какие гробы?
Громадный, опухший от ветра и горя голый человек сказал не сразу свое слово, он
сначала опустил голову и напряженно сообразил. Должно быть, он постоянно забывал
помнить про самого себя и про свои заботы: то ли он утомился или же умирал по мелким
частям на ходу жизни.
— Гробы! — сообщил он горячим, шерстяным голосом. — Гробы тесовые мы в пещеру
сложили впрок, а вы копаете всю балку. Отдайте гробы!
Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета на самом деле было отрыто
сто пустых гробов; два из них он забрал для девочки — в одном гробу сделал ей постель на
будущее время, когда она станет спать без его живота, а другой подарил ей для игрушек и
всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уголок.
— Отдайте мужику остальные гробы, — ответил Прушевский.
— Все отдавай, — сказал человек. — Нам не хватает мертвого инвентаря, народ свое
имущество ждет. Мы те гробы по самообложению заготовили, не отымай нажитого!
— Нет, — произнес Чиклин. — Два гроба ты оставь нашему ребенку, они для вас все